ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна



рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Кретова Марина
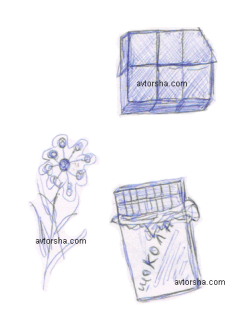
С трех до пяти женщины из
пятнадцатой палаты обычно стояли у окна
на лестнице. Из окна каждый день можно
было видеть примерно одно и то же. Узкую
дорожку, ведущую к шоссе, уже присыпанную
желтой листвой, два дуба, один с
дуплом, медсестер, которые грелись на
солнышке, курили и смеялись, пользуясь
свободным временем — тихим часом,
— и серое, измазанное масляной
краской бревно, утопающее в траве, с
прилипшими обрывками промасленной
оберточной бумаги и еще с чем-то, что
было сверху не разглядеть. На бревне
сидела Рая в полосатом платье, у ее ног
вертелась бочкообразная, неустойчивая
в ногах собака по кличке Березка. Собака
всегда что-то жевала, рылась в мусоре и
только изредка поднимала от земли
запачканную бородатую мордочку.
С недавних пор, примерно с неделю, на бревне рядом с неразлучной парой стал просиживать парень в тонком синем свитере. Приходил он часам к одиннадцати-двенадцати утра, в то время, когда Рая с Березкой уже заканчивали утреннюю прогулку, а уходил вечером, когда одни нянечки с сумками брели домой, а другие приходили на ночное дежурство.
Днем к бревну приходили рабочие в спецовках, иногда с ними приходили их друзья в брюках и пиджаках от разных костюмов. Они пили пиво, закусывали колбасой, хлебом, кислыми яблоками, но по какому-то негласному закону не буянили, ругались вполголоса и никогда не забирали пустых бутылок. В окна женской больницы они смотрели робко и сочувственно, иногда здоровались с женщинами, приподнимали протертые на швах кепки. И только всего раз в праздник один из них громко расплакался и раскричался. Впрочем, ничего обидного он не кричал, и женщины были даже польщены, слыша, как он старательно повторяет одно и то же: «Бедные, бедные вы мои, идите, я вас всех поцелую». Тут же прибежала Рая с Березкой, они жили в доме напротив, и Рая начала стыдить и ругать мужика за шум и неуважение к материнству. Она так и говорила: «за неуважение к материнству». В страхе перед справедливым напором мужик ретировался в дальние кусты.
Вообще-то у Раи был очень неуживчивый характер: она ругалсь с мужиками — что пьют, с дворником — что плохо убирает, и даже с нянечками — что не выпускают женщин гулять, а им, по словам Раи, тоже воздух и променажи нужны. «У нас болеют, а не разгуливают, — злорадно отвечали ей няньки, — а ты, бездельница, гуляй в другом месте, нечего тут твоей собаке гадить». Нянечки не терпели выговоров и непослушания от больных и Раи.
Втайне женщины из пятнадцатой ждали, когда же Рая поссорится с парнем, потому что в те часы, когда Рая сидела на бревне и разглядывала больничные окна, она никого к себе не подпускала, видимо, ей хотелось уединения и покоя. Но ссоры так и не произошло. Парень приходил, не здороваясь, садился на бревно, бросал на землю черную потрепанную сумку, закуривал и внимательно смотрел то в стену, то себе под ноги. Не так уж часто он смотрел в окна пятнадцатой палаты, и никто не слышал, чтобы он разговаривал с беленькой, которая никогда не висела на подоконнике, а два или три раза в день, закутав ноги шерстяным одеялом, присаживалась к окну и выглядывала наружу. Никто не замечал, чтобы парень разговаривал с Раей. Она сидела рядом, согнув сутулую спину, притихшая, никого не задирала, а собаку свою окликала строго и величала Березой. Впрочем, однажды разговор между ними все же состоялся.
— Жена лежит? — безо всякого вступления поинтересовалась Рая и, сама не зная почему, разволновалась, ожидая ответа.
Парень повернул к ней простое лицо и то ли кивнул, то ли пожал плечами.
— Рожать, что ли, собирается или болит что?
— Болеет! — ответил он, и голос у него оказался чистый и тихий.
— А что же ты днем приходишь, не работаешь, что ли?
— Не работаю, учусь, каникулы у меня, — без интереса и раздражения сказал он.
— Хорошо вам, вы молодые, красивые, все у вас есть, вам теперь и любовь можно.
И Рая вдруг замолчала. Неизвестно, что снизошло после этой единственной беседы на Раю, но только она стала всегда дожидаться парня на бревне, и сидели они там часами теперь вместе, молчали, посматривали по сторонам и были похожи на близких друзей или родственников, которые не говорят между собой только потому, что все уже друг о друге знают. Иногда в больших кустах поднимался ветер, но заметно это было только по развевающимся неопределенного цвета волосам Раи, парень был острижен почти наголо, и в нем от ветра ничего не менялось. Ветер шевелил листву, обрывки газет и белой бумаги, шерсть на куцем хвосте Березки, белые шапочки прогуливающихся медсестер — и женщины возвращались в пятнадцатую палату и говорили беленькой: на улице ветер. Она поднимала голову от книги, рассеянно улыбалась, вставала, поправляя халат, и подходила к окну. Она не видела пристальных взглядов себе в спину, только ежилась иногда, как будто мерзла, и смотрела вниз на медсестер, дубы, дорожку, на бревно и снова на медсестер, на кусты боярышника, на дорожку.
Последнее время женщины специально выходили из палаты на лестницу, им казалось, что отсюда они лучше разглядят, что же все-таки происходит между Раей и парнем, парнем и беленькой. Как-никак с лестницы были видны все сразу, а из палаты только худенькая напряженная спина беленькой, а когда она поворачивалась и шла к кровати, то лицо да улыбка, ничего такого не выражающая.
Однажды парень достал из сумки банку, подошел с ней к окну столовой, и молоденькая повариха налила в банку обычной некипяченой воды. Потом он поднял с земли кусочек чего-то белого, не то мела, не то мыла, и перочинным ножом принялся состругивать кусочки в воду. Женщины из окна видели все это, но почему-то это не удивило их, не удивило это и Раю, тихо сидящую рядом с парнем на бревне, и Березку, которая продолжала ковыряться в объедках, не удивило медсестер, повариху из столовой, и только когда парень встал, продул травинку с двух концов, помешал ею в банке и из травинки выплыл, вытек, покачиваясь и на ходу приобретая форму, огромный прозрачный шар, все ахнули. За этим шаром возник второй, меньше и суетливей: он вылетел как оглашенный и тут же лопнул так выразительно, что все вздрогнули. Затем из тоненького отверстия стали появляться цепочкой десятки шаров. Они летали вокруг бревна, садились на кусты и лопались. И женщины смотрели на эти шары и молчали. А шары кружились, хороводили на ветру, и в них отражался весь сегодняшний, сиюминутный мир, деревья, трава, небо.
— Ты глянь, что твой-то делает! — звонко, но не забыв вложить в тон легкий оттенок укоризны, прокричала одна из женщин с порога. Беленькая уже давно стояла у окна. Она только повела плечами на громкий окрик, но не повернулась.
Скоро в палату вернулись остальные. Женщины были оживлены, смеялись и весь день ходили легче и плавнее, чем обычно, крутили пальцами кудряшки на висках и посматривали на беленькую. Но она, отойдя от окна, легла, закрылась одеялом и сделала вид, что заснула.
А еще через неделю между парнем и Раей состоялся второй разговор.
— Не выписали еще? — с тайной надеждой спросила парня Рая.
Он ничего не ответил и улыбнулся. Ничего значительного не было в его лице и улыбке, но Рае вдруг показалось, что сегодня у нее какой-то праздник, тихий, и только ее, ну как дни рождения, которые она никогда не замечала. Разве только в юности. И вот пришел к ней в такой день близкий человек и ничего о празднике не сказал, только улыбнулся вот так.
— Ну, слава богу, — перекрестилась Рая и тихо добавила: — А то посидели бы еще, поговорили.
В пятнадцатой палате из семи коек беленькую не любили. Хотя точнее сказать, были разочарованы тем, что новенькой оказалась именно она.
Ира, Зина и Томка уже привыкли друг к другу и были как родные. Под вечер, удобно расположившись на своих кроватях, они могли почесать языки, тем более что все самое страшное — операция у Зины — было уже позади, шов срастался быстро и хорошо, а Ира и Томка были хроники и находились на излечении после очередных приступов «женской простуды».
Женщины любят поговорить о себе, было бы кому слушать, а уж в больнице темы для разговоров просто не имеют пределов.
Женщины не торопились. Как бы по немому уговору каждой давался целый вечер, чтобы высказаться. Потом начинались ночные прения, которые часто переносились на утро, ввиду соблюдения режима. Был еще один уговор: женщины не осуждались, зато говорить хорошо о мужиках запрещалось, о детях говорили со слезой. Такой вот был больничный расклад.
Из-за общей ли женской судьбы или из-за этих вот правил рассказы женщин были удивительно похожи друг на друга. Выходил один такой общий рассказ. Мать, очень добрая женщина, растила, как могла, не гуляла, платья себе лишнего не купила, отец тоже хороший человек, но выпивал. Подруги все чудесные, верные, откровенные, не раз советами и деньгами выручали (о периодических ссорах со своими мужьями из-за этих самых подруг умалчивалось), а вот муж-то, муж как муж, кобель, в общем. Деньги домой, конечно, приносит, но, может, не все; по дому никогда ничего не делает (с газетой и на диван — классический образ), к матери невнимателен, детьми лишний раз не займется, дружков водит, а ведь дети смотрят, а Коленька (или Машенька), кровиночка, и музыкой, и фигурным катанием, и в школе, и дома. Но это пока маленькие, конечно, со вздохом очень верно подмечалось в конце. Были и отклонения. Например, у Иры был друг, который подъезжал к ней раз в неделю на черной «Волге», и она ухитрялась проникать на волю через какой-то подвал (ну и что, если благоверный даже и проведать не зашел). А у Томки муж был во Владивостоке военный, ему разрешалось быть лучше других, виделись-то редко. А у Зины муж и вовсе умер уже три года назад, о нем тоже разрешалось говорить хорошо.
Через месяц пятнадцатая палата иссякла и стала ждать новенькую. Даже потесниться согласились, чтобы восьмую кровать поставили. Долетали новости и из других палат, но это было не то.
Пятнадцатую палату женщины обжили с помощью салфеточек, баночек, платочков, и когда они вечером удобно располагались на своих кроватях в бигуди и штопали, вязали, делали маникюр, натирались кремами и даже меняли сережки, то им начинало казаться, что они дома, дети уехали к бабушке, а муж... да бог с ним, с мужем. И хотя все как одна на утреннем осмотре врача просились домой, их голоса чуть-чуть фальшивили. Ведь здесь... здесь заботились о них, и они сами чувствовали себя немного детьми. Да и с детьми и с мужем, оказывается, все было неплохо, там справлялись, о чем они ежедневно, простаивая часами на лестнице, узнавали по телефону.
Был конец лета, вечерами в палате горел яркий свет, на который с улицы слетались огромные жирные ночные бабочки, и женщины притворно вскрикивали, начинали носиться по палате, визжа больше от удовольствия, чем от страха, и в каждой на миг видна была глазастая школьница с двумя куцыми косичками, которая помогала маме гладить белье и терпеть не могла мальчишек, грязнуль и грубиянов, а когда на крик прибегала ночная нянечка и, дивясь нервозности больных, полотенцем размазывала по стене насекомое, женщины, раскрасневшиеся и смущенные, глядели на нее исподлобья с тайным страхом и уважением.
— Вы прямо как девки, фи-фи-фи, — ворчала нянька и уходила, из вредности погасив свет. А женщины снова смеялись, потому что у каждой был припасен ночник, маленький такой матовый огонек от розетки, а нянька об этом еще не знала. И ночники загорались, и шептались, перегнувшись через кровати, сорокатрехлетняя Зина, схоронившая мужа, проводившая в армию сына, почти вся пустая теперь внутри после операции, и тридцатилетняя продавщица из «Березки» Ира, которая приезжала в украинскую деревню к матери, где сама резала кур, и вела в городе сложнейшие торговые махинации.
А окна были открыты, и шумели от теплого еще летнего ветра черные дубы и кусты, и то ли разговор слышался оттуда, то ли шаги, и казалось, что обязательно еще что-то случится в жизни. Ночники гасли, глаза закрывались, руки тянули на грудь одеяло или, наоборот, сбрасывали его, а ночью кто-то из них кричал: «а-а-а... мама...» — и открывал в недобрую темноту удивленные глаза. Остальные просыпались, спрашивали сквозь сон, что случилось, и долго еще шаркали тапочки, кто шел в туалет, кто воды попить, кто свеситься в окошко, — покурить. Лица становились смятыми, серыми, вокруг, была больница — операции, процедуры, анализы, а дома были вечные, нескончаемые заботы, и Ира, вглядываясь злыми сощуренными глазами в голую, серую стену, почти вслух говорила: «Зачем? Ну зачем?»
И ждали, ждали новенькую, не красавицу, не уродину, а свою, которая войдет, плюхнется на кровать, бросит рядом пакетик со всякими причиндалами, зевнет во весь рот и скажет: «Эх, бабоньки, вот гулялась, а теперь сюда попалась»... А пришла беленькая.
Каждая больница начинается с приемного отделения, и входят туда с таким лицом, как будто перед дверью уже сказали себе: «Все!» В женские больницы чаще всего попадают неожиданно. Обычный осмотр у врача, ну так, может, побаливает что немного, за делами и не заметишь, и вдруг: «Я вызываю наряд, поедете в больницу, боюсь, что у вас...» И сразу слезы, дрожь, в юбку попасть не можешь, и блаженное какое-то отчаяние. И не хочешь слышать, как в спину несется: «Может, не подтвердится, тогда сегодня же отпустят».
Едешь в белой машине, смотришь в окно, и даже не думаешь: «Не может быть, ошибка, неправда». Нет, сразу понимаешь: да-да, точно это, все-таки сказали, — и такая покорность сразу, приниженность и равнодушие накатываются. «А, бог с ним, — думаешь, — пусть». Даже нет: «Вот вам. Вот». А кому? Так и заходишь. «Присаживайтесь, женщина! — говорит в приемной молодая медсестра или старая, но почему-то всегда кажется, что она студентка-практикантка. — Сейчас спустится врач». И вновь прибывшая тихо отвечает: «Спасибо». И дальше на все-все, что бы ни сказали или ни сделали, она будет говорить: «Спасибо». Операция — спасибо, клизму на ночь — спасибо, у вас удалено то-то и то-то — спасибо!
В ванной, куда вновь прибывшая заходит раздеться и вымыться перед осмотром врача, плакат: «Женщины! Будьте благоразумны...» Дальше оборвано, но никто не удивляется этому, призыв кажется вполне законченным. Он как бы определяет суть всей женской больничной жизни.
«Разденьте ее, тетя Дуся, или Паша, или Валя. Возьмите ее вещи и дайте ей рубашку и халат. Оставим, будем обследовать».
И нянечка Валя, которая уютно, по-старушечьи дремала на банкетке, вздрагивает, поднимается и строго говорит: «Ну, давай, что ли, вещички», — и, принимая их, осмотрит каждую и обязательно сделает несколько замечаний, основанных на мнении, которое она уже составила о тебе, пока дремала, но в то же время очень внимательно прослушивала твою историю жизни и болезни: карту-то стационарную медсестра вслух заполняла. «У, тоже мне мамаша в штанах», — скажет. Или: «О, гулена, без бюстгальтера ходит, что, догулялась?» Или: «Вот грязнуля, а еще учительница». Принимая однажды вещи у невысокой ошарашенной девицы, она злорадно качнула головой: «Гляди, какое беленькое — как у невесты» — и спрятала в шкафчик с номерком женское белье. «Спасибо», — по незыблемому больничному закону ответила та и вся затряслась.
Достались этой вновь прибывшей белая застиранная до мелких дырочек рубашка и халат со складками от утюга, без пояса. «Спасибо», — машинально повторила, стиснула руками полы и влезла босыми ногами в тапочки коричневые, ношеные, с надписью белой краской на левом: 2 этаж, а на правом — 3-й.
«Иди вперед, к лифту, я догоню», — скомандовала ей нянька. И она пошла, зашаркала огромными тапочками, ссутулилась и все время оглаживала спереди путающуюся в ногах рубашку.
«Эй, беленькая, погоди, — окликнула ее с низу лестничного пролета Валя. — Что ж ты старую женщину гоняешь, у нас пешком не положено, на лифте надо, давай вниз...» И как это ни смешно, вновь прибывшая спустилась, и они торжественно въехали на второй этаж в грузовом скрипящем и громыхающем лифте.
«На, вместо пояса, — царственным жестом одарила длинным бинтом вновь прибывшую Валя, — уходить будешь, постираешь и отдашь», — ворчливо добавила она и осталась собой довольна.
«Большое спасибо», — снова ответила беленькая и вошла в пятнадцатую палату. Тихий час уже закончился, и женщины, занимаясь каждая своим делом, с жадностью и вожделением от долгого ожидания разглядывали новенькую. Она не поздоровалась, прошла к своей кровати и, не озираясь по сторонам, как будто действовала по заранее намеченному плану, начала заправлять ее. Руки дрожали, она никак не могла попасть одеялом в пододеяльник, мучилась, трясла головой, дышала все чаще, но о помощи не просила, упорно, зло и непонятно
боролась она в одиночку с такой простой в употреблении вещью, как больничное одеяло, и женщины, изумленные этой схваткой, молчали и, не отрываясь, как зачарованные, смотрели и гадали, чем все это кончится. Наконец враг сдался, новенькая вытерла ладонью мелкий пот с лица, легла и, укрывшись с головой, сделала вид, что уснула. Она и потом часто так делала.
— Ну как, расположилась беленькая-то ваша? — спросила женщин на полднике Валя.
— Спит! — мрачно ответила Зина.
«Спала» беленькая почти сутки. Потом стала, конечно, вставать, здороваться, улыбаться даже, но ничто не могло расположить к ней обманутую в своих тайных надеждах пятнадцатую.
Хотя не все было просто. Вышло так, что каждая из женщин пятнадцатой палаты имела с беленькой беседу и говорила ей то, чего никогда не говорила своим больничным подругам. Но от этого в их отношении к ней ничего не менялось, хотя они и не стыдились после своей откровенности, как бывает всегда, когда сердцем не доверяешь. Получалось, что сердца их были покойны, доверяя беленькой свои тайны, а вот умом выходило, что чужая им беленькая, странная и непонятная, в общем, неприемлемая для их больничных бесед и жизни.
— Плевала я на эту дуру, — когда беленькой не было в палате, заявила Ирина, сооружая на голове сложную прическу, — плевала! Какое мне дело, что она думает, хочу и удираю и езжу с мужиком на черной «Волге», пусть завидует. — Сказано это было на подколку Зинаиды — дескать, очень явно гуляешь, Ирина, беленькая-то осуждает небось!
— Да, уж такая позавидует, — тоже подкрашиваясь, просто от охоты, вступила Томка, — вон к своему-то и не выйдет, боится, что укусит, что ли? Эх, был бы мой мужик тут, я бы от него не отходила.
— А может, у них отношения платонические, — хохотнула Зина, — а, девочки? Возвышенная любовь... — И она закатила глаза.
— От возвышенной сюда не попадают, — заключила Ирина и убежала в подвал.
Однако этим же вечером, когда дневные врачи ушли по домам, а дежурные расположились у телевизора, Ирина застала беленькую на чердаке, где у больных была тайная, а на самом деле известная всему персоналу курилка, и сказала: «Знаешь, мы ведь почему с ним расплевались... Три года неразлучные были. Я его из армии ждала. Он такой внимательный, в общем-то, был, но лишний раз цветочки не подарит, комплимента не скажет, все смотрит, улыбается и молчит. А я на него тоже смотрю и думаю: «Что же, и все? Вот так всю жизнь? А я-то была какая?! Красивая, одеваюсь лучше многих, молодая, меня ж на руках надо носить, цветами забрасывать, еще, еще больше любить, и только меня». Каждое движение свое продумывала, и так вертелась перед ним, и этак, а он: «Ну кривляка ты, Ирка!» — «А пошел ты...» — говорю и замуж выскочила. Этот, муж-то мой, за троллейбусом, в котором я ехала, бегал, на одной остановке у рынка выскакивал, цветы покупал, а на другой снова садился, бегом успевал. Бабы, знаешь, как на меня смотрели? А оказался... жмот и склочник. Побить даже может, гад. А тот женился, по службе продвинулся, вот и видимся теперь в неделю раз. Чаще нельзя, семья у него, ребенок, да и у меня тоже. Ничего, обходительный сделался. Раньше не замечала. Муж-то, он и есть муж, хоть какой, да скучно жить стало, скучно... И так скучно, и этак. Не такой-то она мне раньше, эта жизнь, представлялась...
Ирина достала из кармана длинного махрового домашнего халата изящную щетку и провела ею по блестящим желтым волосам. Беленькая молчала, сидя на ступеньке. И Ирина вдруг неожиданно для самой себя вытянула руку и потрогала ее легкие, растрепанные волосы. Потом, напевая, легко спустилась по лестнице на второй этаж и в палате начала дурачиться, драться подушками, а когда вернулась беленькая, то и ее попыталась расшевелить: научила раскладывать дамский пасьянс и заставила примерить свое салатовое фирменное платье — мечту Томки. Платье беленькой не подошло.
Тихий час. Светило яркое солнце, только что прошел дождь с грозой. Громко перекрикивались воробьи, как бы проверяли, все ли их братья живы после опасности. В воздухе пахло рябиной, липой, водой — пахло свежо. Женщины не спали, они разгадывали кроссворд. Только беленькая лежала под одеялом лицом к окну и думала о чем-то своем, а может, просто разглядывала кусок неба, черные после дождя наплывы коры на большом дубе. Кроссворд был почти разгадан. Женщины были польщены и даже немного потрясены своим интеллектом. Они были напряженно, взвинченно серьезны — оставалось отгадать последнее слово, и задание было несложным: плодовое дерево из девяти букв, на «а» начинается, на «о» заканчивается.
— Ну есть абрикос, айва, — перечисляла Ирина, жмурясь и вызывая из памяти пышные украинские сады.
— Ананас, алыча, — загибала пальцы Томка.
Не находилось слово. Женщинам уже надоело отгадывать, хотелось найти предлог, чтобы бросить это занятие, а просто отложить было нельзя, никто не допускал, что можно просто отложить, все томились, и тут из-под одеяла вынырнула голова беленькой, и лицо у нее было прелукавое:
— Я знаю это дерево, — выпалила она. — Это аб-ри-ко-си-о, — по слогам звонко произнесла она и залилась таким хохотом, что зазвенели пружины кровати.
И вдруг все женщины стали хохотать, швыряться газетами, качаться на кроватях. «Абрикосио!» — кричали они и веселились до слез.
И смеялось и качалось все вокруг — стены как бы раздвинулись, свет залил палату, и показалось, что они на самодельных качелях за городом, в огромных панамах, загорелые, с перепачканными черникой ртами, и ждет их приготовленный мамой вкусный обед с грибами, пирогами и свежими пупырчатыми огурчиками из клеенчатых парников. А еще впереди вечер с костром или печкой, беспечный таинственный летний вечер, и ночь, и следующий день, и вся жизнь — АБРИКОСИО! И раскачивалась и смеялась громче всех беленькая, и Томка, сорвавшись со своей постели, плюхнулась на пол, взвизгнув, как будто сорвалась с дерева. И все были добрыми и поняли, что беленькая такая своя, ну своее не бывает, сестренка, подружка, мама.
А потом это прошло очень быстро, и снова придумывали женщины всякие маленькие хитрости, чтобы вывести ее на чистую воду, разгадать, подвести итог, вынести приговор и успокоиться, потому что женская душа успокаивается только тогда, когда все ясно. Но поймать беленькую было не так-то просто. Все просьбы — принести воды, убрать разбитую банку и даже попросить Валю, или Пашу, или Дусю поменять простыни — она выполняла с готовностью и тщательно. Принесенные из дома гостинцы никогда не ела одна, даже самые дефицитные, на вопросы охотно отвечала — только почему-то почти никто ни о чем ее не спрашивал.
Все было нормально в пятнадцатой палате, но почти затихли вечерние надоевшие, но необходимые, как воздух, разговоры о мужьях-негодяях, детях-кровиночках и необычных умницах и свекровях-злодейках. Просто смотрели телевизор, обсуждали фильмы, но тоже нехотя, без азарта, и косились, щетинились на беленькую, как будто она была во всем виновата.
Зина рассказала ей однажды ночью, как тяжело умирал ее муж, как ревновала она его, изводила, ни одной женщины в дом не пускала. На работу к нему ходила, скандалила, мастер он был на обувной фабрике, а коллектив-то там бабский, а он только морщился, как от зубной боли, спокойненько так говорил ей: «Бог с тобой, Зинуля, не изводись, напрасно это». И никуда не ходил, с приятелями даже не виделся, все только с ней, а ей все равно казалось, скрывает, ну, от меня не уйдешь, поймаю.
Карманы проверяла, у дверей караулила, так и не поймала. Умер он. А как только умер, грех говорить, но успокоилась, спать хоть стала и улыбаться, а то злющая всегда, как змея, ходила. «Он, видно, бедный, потому и умер, чтоб мне пожить дать», — с горечью закончила и закряхтела, поворачиваясь на другой бок.
Еще в женской больнице не любили тех, кто приходил «избавляться». Им был отведен целый четвертый этаж. Приходили они обычно рано утром, поднимались не на лифте, а пешком, шли гуськом в своих домашних халатах, а городскую одежду держали под мышками в больших целлофановых пакетах. Поднимались они молча, глядели под ноги, а на следующий день уже носились по больнице, верещали, сбегали курить на улицу, болтали часами по телефону. А еще через день они уходили домой ярко одетые, беспечные. «Бр-р», — говорили они, выходя из дверей больницы и вспоминая взгляды, которыми их провожали. «Бр-р», — и отряхивали, сбрасывали с себя двухдневный больничный ужас, запах, ощущение животного страха, противоестественности, стыда и боли.
Почти каждая из женщин, лежащих в хирургии или в отделении, где не хотели больше «избавляться», а хотели иметь и не могли, прошли через это, но каждая считала свой случай исключительным и сейчас всей душой ненавидела себе подобных, не желающих, избегающих усложнить свою жизнь. «Бездельницы, вертихвостки»,— вот и весь сказ. К девочкам же, которые лежали на сохранении, относились с уважением и некоторым даже почтением. Опекали их, подбадривали, и те, сами хорошенько не понимающие, почему они должны добровольно лежать здесь месяцами, есть только то, что дадут, пить, что дадут, а не валяться сейчас на пляже с подругами, не спать со своими мужьями, ходили гордые, величавые, как будто выполняли некую возложенную на них святую миссию, чувствовали себя мученицами за идею.
Беленькую Томка застала в обычном месте, на чердаке. Присела рядом на ступеньку и безо всяких предисловий стала рассказывать:
— По мужу соскучилась — страсть, так бы сейчас и побежала, кинулась на грудь, но вот ведь во Владивостоке он. Хоть поговорить о нем, об Игорьке-то. Мы с ним познакомились давно, лет шесть назад, поженились только три как. У меня отец военный, я военных мужиков вообще люблю, выправка, осанка, твердость.
Он тогда курсантом был, сейчас уже лейтенант. Познакомились мы здесь, в Москве. Я тогда, знаешь, какая была, у, подай-принеси. Ну он мне, выходи, мол, за меня. А я — да на что ты мне такой нужен. Он ростом небольшой, не красавец, но крепкий такой. Но тогда не моего романа герой, и все тут. Ну он — нет, так нет. И с подругой моей стал гулять. А я с его другом. Потом думаю, что же, шутил, выходит. И такая досада меня взяла, что влюбилась. А теперь он ни в какую. Вроде со мной, а вроде и с другими успевал, я его даже заставала. Ну ругались, собачились. Я тоже в долгу не оставалась. А теперь — все. Как поженились, его во Владивосток, к границе отправили, ну и я с ним. Знаешь, как мы с ним хорошо живем. Он даже стирать мне иногда помогает. И когда я на улицу иду, то прямо юбку мне задирает, смотрит, тепло ли одета. Вот он какой у меня. Детей мы пока не хотим, успеется еще добром этим обзавестись. А с изменами — все. Ни он мне, ни я ему. Ну а ты про себя расскажи?
— Да я даже не знаю, что рассказать, — беленькая улыбнулась. — Замужем была. Бросил...
Диагноз у беленькой был страшный, но под вопросом. И ее обследовали две недели. Обследовали и отпустили. И она собралась, аккуратно сложив постельное белье, запихнула в сумку документы и выписку. На прощание сказала:
— Выздоравливайте, пожалуйста, и будьте счастливы.
И ушла. Женщины кивнули ей вежливо, смолчали, переглянулись. А потом ворвалась в палату Томка и прямо с порога закричала:
— Ушла, ушла уже, что же я-то не успела попрощаться! — рванулась было к двери, но обернулась, почувствовала недоуменные взгляды. — Да своя она, девочки, наша, простая, одна с ребенком мается, закройщицей на фабрике работает, и парень-то этот не ее...
— Не ее, — эхом повторили женщины и заулыбались, затеплились. Вмиг ушло раздражение, зависть, недоверчивость от чужой, недоступной им жизни.
— А что она сказала-то напоследок? — теребила их Томка.
— Будьте счастливы, говорит, поправляйтесь, — умильно завспоминали и все втроем, разом помолодевшие, бросились к окну, хоть спину подруги увидеть.
Но за окном было пусто, жарко.
На бревне сидела Рая в полосатом платье, рылась в земле Березка, рядом с Раей сидел парень в тонком синем свитере и внимательно смотрел то на дорожку, то на дуб, то в окна пятнадцатой палаты, то четырнадцатой.
© Кретова Марина
С недавних пор, примерно с неделю, на бревне рядом с неразлучной парой стал просиживать парень в тонком синем свитере. Приходил он часам к одиннадцати-двенадцати утра, в то время, когда Рая с Березкой уже заканчивали утреннюю прогулку, а уходил вечером, когда одни нянечки с сумками брели домой, а другие приходили на ночное дежурство.
Днем к бревну приходили рабочие в спецовках, иногда с ними приходили их друзья в брюках и пиджаках от разных костюмов. Они пили пиво, закусывали колбасой, хлебом, кислыми яблоками, но по какому-то негласному закону не буянили, ругались вполголоса и никогда не забирали пустых бутылок. В окна женской больницы они смотрели робко и сочувственно, иногда здоровались с женщинами, приподнимали протертые на швах кепки. И только всего раз в праздник один из них громко расплакался и раскричался. Впрочем, ничего обидного он не кричал, и женщины были даже польщены, слыша, как он старательно повторяет одно и то же: «Бедные, бедные вы мои, идите, я вас всех поцелую». Тут же прибежала Рая с Березкой, они жили в доме напротив, и Рая начала стыдить и ругать мужика за шум и неуважение к материнству. Она так и говорила: «за неуважение к материнству». В страхе перед справедливым напором мужик ретировался в дальние кусты.
Вообще-то у Раи был очень неуживчивый характер: она ругалсь с мужиками — что пьют, с дворником — что плохо убирает, и даже с нянечками — что не выпускают женщин гулять, а им, по словам Раи, тоже воздух и променажи нужны. «У нас болеют, а не разгуливают, — злорадно отвечали ей няньки, — а ты, бездельница, гуляй в другом месте, нечего тут твоей собаке гадить». Нянечки не терпели выговоров и непослушания от больных и Раи.
Втайне женщины из пятнадцатой ждали, когда же Рая поссорится с парнем, потому что в те часы, когда Рая сидела на бревне и разглядывала больничные окна, она никого к себе не подпускала, видимо, ей хотелось уединения и покоя. Но ссоры так и не произошло. Парень приходил, не здороваясь, садился на бревно, бросал на землю черную потрепанную сумку, закуривал и внимательно смотрел то в стену, то себе под ноги. Не так уж часто он смотрел в окна пятнадцатой палаты, и никто не слышал, чтобы он разговаривал с беленькой, которая никогда не висела на подоконнике, а два или три раза в день, закутав ноги шерстяным одеялом, присаживалась к окну и выглядывала наружу. Никто не замечал, чтобы парень разговаривал с Раей. Она сидела рядом, согнув сутулую спину, притихшая, никого не задирала, а собаку свою окликала строго и величала Березой. Впрочем, однажды разговор между ними все же состоялся.
— Жена лежит? — безо всякого вступления поинтересовалась Рая и, сама не зная почему, разволновалась, ожидая ответа.
Парень повернул к ней простое лицо и то ли кивнул, то ли пожал плечами.
— Рожать, что ли, собирается или болит что?
— Болеет! — ответил он, и голос у него оказался чистый и тихий.
— А что же ты днем приходишь, не работаешь, что ли?
— Не работаю, учусь, каникулы у меня, — без интереса и раздражения сказал он.
— Хорошо вам, вы молодые, красивые, все у вас есть, вам теперь и любовь можно.
И Рая вдруг замолчала. Неизвестно, что снизошло после этой единственной беседы на Раю, но только она стала всегда дожидаться парня на бревне, и сидели они там часами теперь вместе, молчали, посматривали по сторонам и были похожи на близких друзей или родственников, которые не говорят между собой только потому, что все уже друг о друге знают. Иногда в больших кустах поднимался ветер, но заметно это было только по развевающимся неопределенного цвета волосам Раи, парень был острижен почти наголо, и в нем от ветра ничего не менялось. Ветер шевелил листву, обрывки газет и белой бумаги, шерсть на куцем хвосте Березки, белые шапочки прогуливающихся медсестер — и женщины возвращались в пятнадцатую палату и говорили беленькой: на улице ветер. Она поднимала голову от книги, рассеянно улыбалась, вставала, поправляя халат, и подходила к окну. Она не видела пристальных взглядов себе в спину, только ежилась иногда, как будто мерзла, и смотрела вниз на медсестер, дубы, дорожку, на бревно и снова на медсестер, на кусты боярышника, на дорожку.
Последнее время женщины специально выходили из палаты на лестницу, им казалось, что отсюда они лучше разглядят, что же все-таки происходит между Раей и парнем, парнем и беленькой. Как-никак с лестницы были видны все сразу, а из палаты только худенькая напряженная спина беленькой, а когда она поворачивалась и шла к кровати, то лицо да улыбка, ничего такого не выражающая.
Однажды парень достал из сумки банку, подошел с ней к окну столовой, и молоденькая повариха налила в банку обычной некипяченой воды. Потом он поднял с земли кусочек чего-то белого, не то мела, не то мыла, и перочинным ножом принялся состругивать кусочки в воду. Женщины из окна видели все это, но почему-то это не удивило их, не удивило это и Раю, тихо сидящую рядом с парнем на бревне, и Березку, которая продолжала ковыряться в объедках, не удивило медсестер, повариху из столовой, и только когда парень встал, продул травинку с двух концов, помешал ею в банке и из травинки выплыл, вытек, покачиваясь и на ходу приобретая форму, огромный прозрачный шар, все ахнули. За этим шаром возник второй, меньше и суетливей: он вылетел как оглашенный и тут же лопнул так выразительно, что все вздрогнули. Затем из тоненького отверстия стали появляться цепочкой десятки шаров. Они летали вокруг бревна, садились на кусты и лопались. И женщины смотрели на эти шары и молчали. А шары кружились, хороводили на ветру, и в них отражался весь сегодняшний, сиюминутный мир, деревья, трава, небо.
— Ты глянь, что твой-то делает! — звонко, но не забыв вложить в тон легкий оттенок укоризны, прокричала одна из женщин с порога. Беленькая уже давно стояла у окна. Она только повела плечами на громкий окрик, но не повернулась.
Скоро в палату вернулись остальные. Женщины были оживлены, смеялись и весь день ходили легче и плавнее, чем обычно, крутили пальцами кудряшки на висках и посматривали на беленькую. Но она, отойдя от окна, легла, закрылась одеялом и сделала вид, что заснула.
А еще через неделю между парнем и Раей состоялся второй разговор.
— Не выписали еще? — с тайной надеждой спросила парня Рая.
Он ничего не ответил и улыбнулся. Ничего значительного не было в его лице и улыбке, но Рае вдруг показалось, что сегодня у нее какой-то праздник, тихий, и только ее, ну как дни рождения, которые она никогда не замечала. Разве только в юности. И вот пришел к ней в такой день близкий человек и ничего о празднике не сказал, только улыбнулся вот так.
— Ну, слава богу, — перекрестилась Рая и тихо добавила: — А то посидели бы еще, поговорили.
В пятнадцатой палате из семи коек беленькую не любили. Хотя точнее сказать, были разочарованы тем, что новенькой оказалась именно она.
Ира, Зина и Томка уже привыкли друг к другу и были как родные. Под вечер, удобно расположившись на своих кроватях, они могли почесать языки, тем более что все самое страшное — операция у Зины — было уже позади, шов срастался быстро и хорошо, а Ира и Томка были хроники и находились на излечении после очередных приступов «женской простуды».
Женщины любят поговорить о себе, было бы кому слушать, а уж в больнице темы для разговоров просто не имеют пределов.
Женщины не торопились. Как бы по немому уговору каждой давался целый вечер, чтобы высказаться. Потом начинались ночные прения, которые часто переносились на утро, ввиду соблюдения режима. Был еще один уговор: женщины не осуждались, зато говорить хорошо о мужиках запрещалось, о детях говорили со слезой. Такой вот был больничный расклад.
Из-за общей ли женской судьбы или из-за этих вот правил рассказы женщин были удивительно похожи друг на друга. Выходил один такой общий рассказ. Мать, очень добрая женщина, растила, как могла, не гуляла, платья себе лишнего не купила, отец тоже хороший человек, но выпивал. Подруги все чудесные, верные, откровенные, не раз советами и деньгами выручали (о периодических ссорах со своими мужьями из-за этих самых подруг умалчивалось), а вот муж-то, муж как муж, кобель, в общем. Деньги домой, конечно, приносит, но, может, не все; по дому никогда ничего не делает (с газетой и на диван — классический образ), к матери невнимателен, детьми лишний раз не займется, дружков водит, а ведь дети смотрят, а Коленька (или Машенька), кровиночка, и музыкой, и фигурным катанием, и в школе, и дома. Но это пока маленькие, конечно, со вздохом очень верно подмечалось в конце. Были и отклонения. Например, у Иры был друг, который подъезжал к ней раз в неделю на черной «Волге», и она ухитрялась проникать на волю через какой-то подвал (ну и что, если благоверный даже и проведать не зашел). А у Томки муж был во Владивостоке военный, ему разрешалось быть лучше других, виделись-то редко. А у Зины муж и вовсе умер уже три года назад, о нем тоже разрешалось говорить хорошо.
Через месяц пятнадцатая палата иссякла и стала ждать новенькую. Даже потесниться согласились, чтобы восьмую кровать поставили. Долетали новости и из других палат, но это было не то.
Пятнадцатую палату женщины обжили с помощью салфеточек, баночек, платочков, и когда они вечером удобно располагались на своих кроватях в бигуди и штопали, вязали, делали маникюр, натирались кремами и даже меняли сережки, то им начинало казаться, что они дома, дети уехали к бабушке, а муж... да бог с ним, с мужем. И хотя все как одна на утреннем осмотре врача просились домой, их голоса чуть-чуть фальшивили. Ведь здесь... здесь заботились о них, и они сами чувствовали себя немного детьми. Да и с детьми и с мужем, оказывается, все было неплохо, там справлялись, о чем они ежедневно, простаивая часами на лестнице, узнавали по телефону.
Был конец лета, вечерами в палате горел яркий свет, на который с улицы слетались огромные жирные ночные бабочки, и женщины притворно вскрикивали, начинали носиться по палате, визжа больше от удовольствия, чем от страха, и в каждой на миг видна была глазастая школьница с двумя куцыми косичками, которая помогала маме гладить белье и терпеть не могла мальчишек, грязнуль и грубиянов, а когда на крик прибегала ночная нянечка и, дивясь нервозности больных, полотенцем размазывала по стене насекомое, женщины, раскрасневшиеся и смущенные, глядели на нее исподлобья с тайным страхом и уважением.
— Вы прямо как девки, фи-фи-фи, — ворчала нянька и уходила, из вредности погасив свет. А женщины снова смеялись, потому что у каждой был припасен ночник, маленький такой матовый огонек от розетки, а нянька об этом еще не знала. И ночники загорались, и шептались, перегнувшись через кровати, сорокатрехлетняя Зина, схоронившая мужа, проводившая в армию сына, почти вся пустая теперь внутри после операции, и тридцатилетняя продавщица из «Березки» Ира, которая приезжала в украинскую деревню к матери, где сама резала кур, и вела в городе сложнейшие торговые махинации.
А окна были открыты, и шумели от теплого еще летнего ветра черные дубы и кусты, и то ли разговор слышался оттуда, то ли шаги, и казалось, что обязательно еще что-то случится в жизни. Ночники гасли, глаза закрывались, руки тянули на грудь одеяло или, наоборот, сбрасывали его, а ночью кто-то из них кричал: «а-а-а... мама...» — и открывал в недобрую темноту удивленные глаза. Остальные просыпались, спрашивали сквозь сон, что случилось, и долго еще шаркали тапочки, кто шел в туалет, кто воды попить, кто свеситься в окошко, — покурить. Лица становились смятыми, серыми, вокруг, была больница — операции, процедуры, анализы, а дома были вечные, нескончаемые заботы, и Ира, вглядываясь злыми сощуренными глазами в голую, серую стену, почти вслух говорила: «Зачем? Ну зачем?»
И ждали, ждали новенькую, не красавицу, не уродину, а свою, которая войдет, плюхнется на кровать, бросит рядом пакетик со всякими причиндалами, зевнет во весь рот и скажет: «Эх, бабоньки, вот гулялась, а теперь сюда попалась»... А пришла беленькая.
Каждая больница начинается с приемного отделения, и входят туда с таким лицом, как будто перед дверью уже сказали себе: «Все!» В женские больницы чаще всего попадают неожиданно. Обычный осмотр у врача, ну так, может, побаливает что немного, за делами и не заметишь, и вдруг: «Я вызываю наряд, поедете в больницу, боюсь, что у вас...» И сразу слезы, дрожь, в юбку попасть не можешь, и блаженное какое-то отчаяние. И не хочешь слышать, как в спину несется: «Может, не подтвердится, тогда сегодня же отпустят».
Едешь в белой машине, смотришь в окно, и даже не думаешь: «Не может быть, ошибка, неправда». Нет, сразу понимаешь: да-да, точно это, все-таки сказали, — и такая покорность сразу, приниженность и равнодушие накатываются. «А, бог с ним, — думаешь, — пусть». Даже нет: «Вот вам. Вот». А кому? Так и заходишь. «Присаживайтесь, женщина! — говорит в приемной молодая медсестра или старая, но почему-то всегда кажется, что она студентка-практикантка. — Сейчас спустится врач». И вновь прибывшая тихо отвечает: «Спасибо». И дальше на все-все, что бы ни сказали или ни сделали, она будет говорить: «Спасибо». Операция — спасибо, клизму на ночь — спасибо, у вас удалено то-то и то-то — спасибо!
В ванной, куда вновь прибывшая заходит раздеться и вымыться перед осмотром врача, плакат: «Женщины! Будьте благоразумны...» Дальше оборвано, но никто не удивляется этому, призыв кажется вполне законченным. Он как бы определяет суть всей женской больничной жизни.
«Разденьте ее, тетя Дуся, или Паша, или Валя. Возьмите ее вещи и дайте ей рубашку и халат. Оставим, будем обследовать».
И нянечка Валя, которая уютно, по-старушечьи дремала на банкетке, вздрагивает, поднимается и строго говорит: «Ну, давай, что ли, вещички», — и, принимая их, осмотрит каждую и обязательно сделает несколько замечаний, основанных на мнении, которое она уже составила о тебе, пока дремала, но в то же время очень внимательно прослушивала твою историю жизни и болезни: карту-то стационарную медсестра вслух заполняла. «У, тоже мне мамаша в штанах», — скажет. Или: «О, гулена, без бюстгальтера ходит, что, догулялась?» Или: «Вот грязнуля, а еще учительница». Принимая однажды вещи у невысокой ошарашенной девицы, она злорадно качнула головой: «Гляди, какое беленькое — как у невесты» — и спрятала в шкафчик с номерком женское белье. «Спасибо», — по незыблемому больничному закону ответила та и вся затряслась.
Достались этой вновь прибывшей белая застиранная до мелких дырочек рубашка и халат со складками от утюга, без пояса. «Спасибо», — машинально повторила, стиснула руками полы и влезла босыми ногами в тапочки коричневые, ношеные, с надписью белой краской на левом: 2 этаж, а на правом — 3-й.
«Иди вперед, к лифту, я догоню», — скомандовала ей нянька. И она пошла, зашаркала огромными тапочками, ссутулилась и все время оглаживала спереди путающуюся в ногах рубашку.
«Эй, беленькая, погоди, — окликнула ее с низу лестничного пролета Валя. — Что ж ты старую женщину гоняешь, у нас пешком не положено, на лифте надо, давай вниз...» И как это ни смешно, вновь прибывшая спустилась, и они торжественно въехали на второй этаж в грузовом скрипящем и громыхающем лифте.
«На, вместо пояса, — царственным жестом одарила длинным бинтом вновь прибывшую Валя, — уходить будешь, постираешь и отдашь», — ворчливо добавила она и осталась собой довольна.
«Большое спасибо», — снова ответила беленькая и вошла в пятнадцатую палату. Тихий час уже закончился, и женщины, занимаясь каждая своим делом, с жадностью и вожделением от долгого ожидания разглядывали новенькую. Она не поздоровалась, прошла к своей кровати и, не озираясь по сторонам, как будто действовала по заранее намеченному плану, начала заправлять ее. Руки дрожали, она никак не могла попасть одеялом в пододеяльник, мучилась, трясла головой, дышала все чаще, но о помощи не просила, упорно, зло и непонятно
боролась она в одиночку с такой простой в употреблении вещью, как больничное одеяло, и женщины, изумленные этой схваткой, молчали и, не отрываясь, как зачарованные, смотрели и гадали, чем все это кончится. Наконец враг сдался, новенькая вытерла ладонью мелкий пот с лица, легла и, укрывшись с головой, сделала вид, что уснула. Она и потом часто так делала.
— Ну как, расположилась беленькая-то ваша? — спросила женщин на полднике Валя.
— Спит! — мрачно ответила Зина.
«Спала» беленькая почти сутки. Потом стала, конечно, вставать, здороваться, улыбаться даже, но ничто не могло расположить к ней обманутую в своих тайных надеждах пятнадцатую.
Хотя не все было просто. Вышло так, что каждая из женщин пятнадцатой палаты имела с беленькой беседу и говорила ей то, чего никогда не говорила своим больничным подругам. Но от этого в их отношении к ней ничего не менялось, хотя они и не стыдились после своей откровенности, как бывает всегда, когда сердцем не доверяешь. Получалось, что сердца их были покойны, доверяя беленькой свои тайны, а вот умом выходило, что чужая им беленькая, странная и непонятная, в общем, неприемлемая для их больничных бесед и жизни.
— Плевала я на эту дуру, — когда беленькой не было в палате, заявила Ирина, сооружая на голове сложную прическу, — плевала! Какое мне дело, что она думает, хочу и удираю и езжу с мужиком на черной «Волге», пусть завидует. — Сказано это было на подколку Зинаиды — дескать, очень явно гуляешь, Ирина, беленькая-то осуждает небось!
— Да, уж такая позавидует, — тоже подкрашиваясь, просто от охоты, вступила Томка, — вон к своему-то и не выйдет, боится, что укусит, что ли? Эх, был бы мой мужик тут, я бы от него не отходила.
— А может, у них отношения платонические, — хохотнула Зина, — а, девочки? Возвышенная любовь... — И она закатила глаза.
— От возвышенной сюда не попадают, — заключила Ирина и убежала в подвал.
Однако этим же вечером, когда дневные врачи ушли по домам, а дежурные расположились у телевизора, Ирина застала беленькую на чердаке, где у больных была тайная, а на самом деле известная всему персоналу курилка, и сказала: «Знаешь, мы ведь почему с ним расплевались... Три года неразлучные были. Я его из армии ждала. Он такой внимательный, в общем-то, был, но лишний раз цветочки не подарит, комплимента не скажет, все смотрит, улыбается и молчит. А я на него тоже смотрю и думаю: «Что же, и все? Вот так всю жизнь? А я-то была какая?! Красивая, одеваюсь лучше многих, молодая, меня ж на руках надо носить, цветами забрасывать, еще, еще больше любить, и только меня». Каждое движение свое продумывала, и так вертелась перед ним, и этак, а он: «Ну кривляка ты, Ирка!» — «А пошел ты...» — говорю и замуж выскочила. Этот, муж-то мой, за троллейбусом, в котором я ехала, бегал, на одной остановке у рынка выскакивал, цветы покупал, а на другой снова садился, бегом успевал. Бабы, знаешь, как на меня смотрели? А оказался... жмот и склочник. Побить даже может, гад. А тот женился, по службе продвинулся, вот и видимся теперь в неделю раз. Чаще нельзя, семья у него, ребенок, да и у меня тоже. Ничего, обходительный сделался. Раньше не замечала. Муж-то, он и есть муж, хоть какой, да скучно жить стало, скучно... И так скучно, и этак. Не такой-то она мне раньше, эта жизнь, представлялась...
Ирина достала из кармана длинного махрового домашнего халата изящную щетку и провела ею по блестящим желтым волосам. Беленькая молчала, сидя на ступеньке. И Ирина вдруг неожиданно для самой себя вытянула руку и потрогала ее легкие, растрепанные волосы. Потом, напевая, легко спустилась по лестнице на второй этаж и в палате начала дурачиться, драться подушками, а когда вернулась беленькая, то и ее попыталась расшевелить: научила раскладывать дамский пасьянс и заставила примерить свое салатовое фирменное платье — мечту Томки. Платье беленькой не подошло.
Тихий час. Светило яркое солнце, только что прошел дождь с грозой. Громко перекрикивались воробьи, как бы проверяли, все ли их братья живы после опасности. В воздухе пахло рябиной, липой, водой — пахло свежо. Женщины не спали, они разгадывали кроссворд. Только беленькая лежала под одеялом лицом к окну и думала о чем-то своем, а может, просто разглядывала кусок неба, черные после дождя наплывы коры на большом дубе. Кроссворд был почти разгадан. Женщины были польщены и даже немного потрясены своим интеллектом. Они были напряженно, взвинченно серьезны — оставалось отгадать последнее слово, и задание было несложным: плодовое дерево из девяти букв, на «а» начинается, на «о» заканчивается.
— Ну есть абрикос, айва, — перечисляла Ирина, жмурясь и вызывая из памяти пышные украинские сады.
— Ананас, алыча, — загибала пальцы Томка.
Не находилось слово. Женщинам уже надоело отгадывать, хотелось найти предлог, чтобы бросить это занятие, а просто отложить было нельзя, никто не допускал, что можно просто отложить, все томились, и тут из-под одеяла вынырнула голова беленькой, и лицо у нее было прелукавое:
— Я знаю это дерево, — выпалила она. — Это аб-ри-ко-си-о, — по слогам звонко произнесла она и залилась таким хохотом, что зазвенели пружины кровати.
И вдруг все женщины стали хохотать, швыряться газетами, качаться на кроватях. «Абрикосио!» — кричали они и веселились до слез.
И смеялось и качалось все вокруг — стены как бы раздвинулись, свет залил палату, и показалось, что они на самодельных качелях за городом, в огромных панамах, загорелые, с перепачканными черникой ртами, и ждет их приготовленный мамой вкусный обед с грибами, пирогами и свежими пупырчатыми огурчиками из клеенчатых парников. А еще впереди вечер с костром или печкой, беспечный таинственный летний вечер, и ночь, и следующий день, и вся жизнь — АБРИКОСИО! И раскачивалась и смеялась громче всех беленькая, и Томка, сорвавшись со своей постели, плюхнулась на пол, взвизгнув, как будто сорвалась с дерева. И все были добрыми и поняли, что беленькая такая своя, ну своее не бывает, сестренка, подружка, мама.
А потом это прошло очень быстро, и снова придумывали женщины всякие маленькие хитрости, чтобы вывести ее на чистую воду, разгадать, подвести итог, вынести приговор и успокоиться, потому что женская душа успокаивается только тогда, когда все ясно. Но поймать беленькую было не так-то просто. Все просьбы — принести воды, убрать разбитую банку и даже попросить Валю, или Пашу, или Дусю поменять простыни — она выполняла с готовностью и тщательно. Принесенные из дома гостинцы никогда не ела одна, даже самые дефицитные, на вопросы охотно отвечала — только почему-то почти никто ни о чем ее не спрашивал.
Все было нормально в пятнадцатой палате, но почти затихли вечерние надоевшие, но необходимые, как воздух, разговоры о мужьях-негодяях, детях-кровиночках и необычных умницах и свекровях-злодейках. Просто смотрели телевизор, обсуждали фильмы, но тоже нехотя, без азарта, и косились, щетинились на беленькую, как будто она была во всем виновата.
Зина рассказала ей однажды ночью, как тяжело умирал ее муж, как ревновала она его, изводила, ни одной женщины в дом не пускала. На работу к нему ходила, скандалила, мастер он был на обувной фабрике, а коллектив-то там бабский, а он только морщился, как от зубной боли, спокойненько так говорил ей: «Бог с тобой, Зинуля, не изводись, напрасно это». И никуда не ходил, с приятелями даже не виделся, все только с ней, а ей все равно казалось, скрывает, ну, от меня не уйдешь, поймаю.
Карманы проверяла, у дверей караулила, так и не поймала. Умер он. А как только умер, грех говорить, но успокоилась, спать хоть стала и улыбаться, а то злющая всегда, как змея, ходила. «Он, видно, бедный, потому и умер, чтоб мне пожить дать», — с горечью закончила и закряхтела, поворачиваясь на другой бок.
Еще в женской больнице не любили тех, кто приходил «избавляться». Им был отведен целый четвертый этаж. Приходили они обычно рано утром, поднимались не на лифте, а пешком, шли гуськом в своих домашних халатах, а городскую одежду держали под мышками в больших целлофановых пакетах. Поднимались они молча, глядели под ноги, а на следующий день уже носились по больнице, верещали, сбегали курить на улицу, болтали часами по телефону. А еще через день они уходили домой ярко одетые, беспечные. «Бр-р», — говорили они, выходя из дверей больницы и вспоминая взгляды, которыми их провожали. «Бр-р», — и отряхивали, сбрасывали с себя двухдневный больничный ужас, запах, ощущение животного страха, противоестественности, стыда и боли.
Почти каждая из женщин, лежащих в хирургии или в отделении, где не хотели больше «избавляться», а хотели иметь и не могли, прошли через это, но каждая считала свой случай исключительным и сейчас всей душой ненавидела себе подобных, не желающих, избегающих усложнить свою жизнь. «Бездельницы, вертихвостки»,— вот и весь сказ. К девочкам же, которые лежали на сохранении, относились с уважением и некоторым даже почтением. Опекали их, подбадривали, и те, сами хорошенько не понимающие, почему они должны добровольно лежать здесь месяцами, есть только то, что дадут, пить, что дадут, а не валяться сейчас на пляже с подругами, не спать со своими мужьями, ходили гордые, величавые, как будто выполняли некую возложенную на них святую миссию, чувствовали себя мученицами за идею.
Беленькую Томка застала в обычном месте, на чердаке. Присела рядом на ступеньку и безо всяких предисловий стала рассказывать:
— По мужу соскучилась — страсть, так бы сейчас и побежала, кинулась на грудь, но вот ведь во Владивостоке он. Хоть поговорить о нем, об Игорьке-то. Мы с ним познакомились давно, лет шесть назад, поженились только три как. У меня отец военный, я военных мужиков вообще люблю, выправка, осанка, твердость.
Он тогда курсантом был, сейчас уже лейтенант. Познакомились мы здесь, в Москве. Я тогда, знаешь, какая была, у, подай-принеси. Ну он мне, выходи, мол, за меня. А я — да на что ты мне такой нужен. Он ростом небольшой, не красавец, но крепкий такой. Но тогда не моего романа герой, и все тут. Ну он — нет, так нет. И с подругой моей стал гулять. А я с его другом. Потом думаю, что же, шутил, выходит. И такая досада меня взяла, что влюбилась. А теперь он ни в какую. Вроде со мной, а вроде и с другими успевал, я его даже заставала. Ну ругались, собачились. Я тоже в долгу не оставалась. А теперь — все. Как поженились, его во Владивосток, к границе отправили, ну и я с ним. Знаешь, как мы с ним хорошо живем. Он даже стирать мне иногда помогает. И когда я на улицу иду, то прямо юбку мне задирает, смотрит, тепло ли одета. Вот он какой у меня. Детей мы пока не хотим, успеется еще добром этим обзавестись. А с изменами — все. Ни он мне, ни я ему. Ну а ты про себя расскажи?
— Да я даже не знаю, что рассказать, — беленькая улыбнулась. — Замужем была. Бросил...
Диагноз у беленькой был страшный, но под вопросом. И ее обследовали две недели. Обследовали и отпустили. И она собралась, аккуратно сложив постельное белье, запихнула в сумку документы и выписку. На прощание сказала:
— Выздоравливайте, пожалуйста, и будьте счастливы.
И ушла. Женщины кивнули ей вежливо, смолчали, переглянулись. А потом ворвалась в палату Томка и прямо с порога закричала:
— Ушла, ушла уже, что же я-то не успела попрощаться! — рванулась было к двери, но обернулась, почувствовала недоуменные взгляды. — Да своя она, девочки, наша, простая, одна с ребенком мается, закройщицей на фабрике работает, и парень-то этот не ее...
— Не ее, — эхом повторили женщины и заулыбались, затеплились. Вмиг ушло раздражение, зависть, недоверчивость от чужой, недоступной им жизни.
— А что она сказала-то напоследок? — теребила их Томка.
— Будьте счастливы, говорит, поправляйтесь, — умильно завспоминали и все втроем, разом помолодевшие, бросились к окну, хоть спину подруги увидеть.
Но за окном было пусто, жарко.
На бревне сидела Рая в полосатом платье, рылась в земле Березка, рядом с Раей сидел парень в тонком синем свитере и внимательно смотрел то на дорожку, то на дуб, то в окна пятнадцатой палаты, то четырнадцатой.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





