ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна


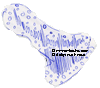
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Чубакова Вера 1986

Глава первая
ЛЮБОВЬ
На калитке, смыкающей каменный забор, все еще висела фанерная табличка с полинявшим предупреждением: «Берегись, злая собака!»
Никакой собаки тут нет и раньше не было, хотя табличка висит, просто через этот двор срезался порядочный угол к трамвайной остановке, вот хозяин и пытался напугать хоть кого-нибудь.
Поколебавшись самую малость, виновато глянув на притаившиеся окна дома, я свесила руку на внутреннюю сторону калитки, как бы взяла ее под мышку, отбросила крючок и решительно направилась к знакомой, варварски выломанной в заборе дыре, прямо через целину, проваливаясь в пористом, хрустящем снегу. В детстве, помню, я часто просила маму, протягивая ей кусочек сахара: «Пожуй у меня над ушком!»
Точно так же хрустел сейчас снег.
Ромка просил меня приехать к дому «с нашлепками», он стоял на пустыре за железнодорожным полотном. Раньше там жил старик с пятью сыновьями, а возможно, и сейчас живет. Когда дети поженились, старик разделил дом на пять частей, и сыновья тут же принялись расширять свои владения за счет разных и всяких пристроек. Братья между собой не ладили, друг с другом не считались, поэтому каждый выкрасил свою часть в такой цвет, какой ему больше нравился.
Дом получился не только бесформенным, но и разноцветным.
Люди говорили:
«А вой зайдете за дом с нашлепками, там и увидите!»
«Так это ж у дома с нашлепками!»
Не знаю, почему Ромке захотелось встретиться со мной именно там.
Мне вспомнились далекие школьные годы. Однажды мы с Ромкой забрались на крышу этого дома — любовались закатом. Помню подрумяненное небо с наслоением красок, мягко переходящих одна в другую: у самого горизонта оно было кроваво-красное, чуть повыше — розовое, затем голубовато-розовое и наконец — лиловое. Никогда я больше не видела такого красочного заката. Я еще подумала тогда: нарисуй художник небо таким — не поверят, скажут, что увидел он его в своем воображении. Или во сне.
Запомнился мне тот вечер еще и потому, что Ромка не постеснялся признаться мне, что любит Лилю.
Я и без него это знала.
Мы учились в одной школе, в одном классе. Ромка и Лиля не могли без меня и дня прожить: я за них решала задачи, проверяла контрольные работы, если им удавалось передать их мне под носом у учительницы, а им, надо сказать, всегда это удавалось. Зато я тряслась от страха. И не потому, что боялась разоблачения, — жалко было учительницу, мы ведь ее обманывали!
Я была возле Ромки и Лили — как прилагательное возле существительных. Прилагательное это можно было в любую минуту заменить или вовсе отбросить: существительные от этого не пострадали бы, поскольку они постоянны и незыблемы.
Все это я понимала, вздыхала потихоньку, случалось, и плакала, но никто не знал, что я страдаю, что влюблена. Да и сам Ромка этого не подозревал, иначе разве стал бы постоянно приглашать меня на молчаливые прогулки да еще признаваться в своей любви к моей подруге?
«Она высмеивает меня на каждом шагу, — жаловался мне Ромка. — Издевается...»
И это мне было известно. У него между двумя передними зубами такая рединка-щель, что смело мог бы поместиться еще один узкий зуб. Лиля донимала его этой щербиной и однажды, смеясь, посоветовала залепить дырку пластилином. Как только Ромка это сделал, Лиля тут же рассказала об этом в классе и подняла его на смех, требуя открыть рот. Он открыл, но пластилина там уже не было. Проглотил.
С тех пор он не только улыбается, но и смеется с закрытым ртом — стесняется щербины.
«Вчера я, знаешь, Саша, подошел к лестничному пролету, — исповедовался тогда Ромка на крыше, — и хотел головой вниз...»
Я представила, как Ромка стукнулся бы о цементную площадку и расплющился, и до того испугалась, что меня начало трясти. И не холодно ведь, а у меня, как на морозе, зуб на зуб не попадает. Ромка, конечно, ничего этого не заметил, а я скорее превратилась бы в сосульку, чем пожаловалась. Но именно с этого дня к моей влюбленности прибавилась еще и жалость.
К Лиле я Ромку не ревновала, понимала, что соперничать мне с ней не по плечу, — я же длинная и некрасивая! Мне искренне хотелось, чтобы Лиля любила Ромку и не обижала. А мне бы только быть с ними рядом. Я рисовала картины нашей дружбы на много лет вперед. Лиля и Ромка поженятся, у них будут дети, жить мы все будем в одной квартире, воспитанием детей займусь я, посвящу им свою жизнь...
Провожая Ромку в армию, Лиля заливалась горючими слезами. Ромка уже в строю, остриженный под машинку, большеухий, совсем на себя не похожий, а Лиля рвется к нему, плачет навзрыд. Я с трудом удерживала ее, хотя и во мне все кричало от боли. Я любила Ромку беззаветно, ни на что не рассчитывая, ни на что не надеясь.
Мое положение было сходно с положением человека, которому надо срочно уехать, а билетов в кассе уже нет. Но человек не уходит, надеется на бронь.
А за неделю до Ромкиного возвращения из армии Лиля неожиданно вышла замуж. Скоропалительное знакомство с ее будущим мужем произошло на моих глазах. В тот вечер мы с Лилей поздно возвращались из театра. Шел дождь, автобус задерживался, мы замерзли, промокли, а тут вдруг подкатывает великолепная машина малинового цвета, открывается дверца, и нас зовут:
«Девочки, могу подвезти!»
Я отказалась без колебания. Не успела оглянуться, как Лиля моя уже в машине, высунулась в открытое окошко, вцепилась в мой рукав, тянет к себе, шепчет: «Не будь дурой, здесь так тепло!»
Я осталась, уверенная, что подруга не решится поехать, но она не вышла из машины.
С этого у них и началось...
Олег Семенович работает главным технологом на соседнем заводе. Он старше Лили на восемнадцать лет. Женатым не был. Отшучивается: «Я ждал, пока Лилия подрастет».
Мне свое вероломство подруга объяснила так: «Ромка еще мальчишка. Никакой почвы под ногами... Какое уж тут семейное счастье, если придется считать каждую копейку? Я люблю Олега Семеновича. А Ромка — это несерьезно, детское увлечение...»
Я с трудом оттягиваю узкий рукав шерстяной кофточки и смотрю на часы — опаздываю на двадцать минут! Ускоряю шаги. Я как марафонец на длинной дистанции: время хоть и вышло, но к финишу все равно прийти надо.
Я не люблю и не хочу опаздывать, но так уж получается, опаздываю довольно часто. А ведь бегу, волнуюсь, наскакиваю на прохожих, толкаю их нечаянно, а потом глупо и безнадежно извиняюсь.
Жарко...
На ходу расстегиваю пальто (ветер тут же забирается под мышки), стаскиваю шарф, стараюсь засунуть его в карман, он раздулся до предела, и все равно шарф не поместился, один конец его свисает до колена. Пусть!
Вспоминаю слова Ольгуни — ткачихи номер один, как ее называют на нашей фабрике: «Саша Нилова, почему у тебя всегда такой вид, будто за тобой гнались?»
Если б я знала!
Не люблю я эту Ольгуню! Назойлива, прилипчива, все выпытывает, выспрашивает, будто ей поручили заполнить на тебя подробную анкету. К тому же она еще и подтрунивает:
«Саша Нилова, когда ты перестанешь сутулиться? Обрати внимание на высоких девушек, какая у них стройная походка, как они спину держат. У тебя же хороший рост!»
Хороший... В школе меня каланчой называли. А Лилю — голубой принцессой. Она одевалась только в голубое.
«Саша Нилова, почему ты за собой не следишь? Хоть бы раз в парикмахерскую сходила, голова у тебя... будто теленок облизал. Хочется тебе дурнушкой казаться... Ты же интересная девушка!»
Интересная... Всего с избытком: губы толстые, брови густые и лохматые, как гусеницы... Глаза как плошки. Папа называл меня лупоглазой. А нос как у мамы. Она сама над собой посмеивалась: «Нос мешает мне чай пить, раньше меня в стакан заглядывает».
Мне рассказывали, что поначалу многие женщины на фабрике недолюбливали Ольгуню. Каждый день ее привозил на работу муж, бывший военный летчик. Выпустит из машины и кричит вслед: «Всего тебе доброго, Ольгуня! Я заеду за тобой!» С тех пор ее иначе и не зовут. А я так никак ее не зову: Ольгуней вроде и неудобно, а по отчеству ее никто не зовет, умудряюсь обходиться и без того и без другого.
У нас никого не привозили на своих машинах и не ждали после смены у проходной. Даже Евгению Павловну, нашего директора.
И только шесть лет спустя, когда умер муж Ольгуни и страхделегат повез ей домой деньги на похороны — пособие от месткома, узнали, что у бывшего летчика не было обеих ног, потерял на фронте, и что он с детства любил Ольгуню, женихом ушел на войну, а когда стал инвалидом, уехал куда-то в Сибирь, спрятался. Но разве от Ольгуни можно спрятаться?
В прошлом году ее с почестями проводили на пенсию (у нас женщины уходят на пенсию в пятьдесят лет), но ровно через месяц она вернулась: «Не могу без фабрики, истосковалась, тянет в наше бабье царство!»
У нас действительно бабье царство: мужчины будто горошины, по ошибке всыпанные в манную крупу...
На заснеженном пустыре, необъятно тянувшемся за железнодорожным полотном, разноцветного дома не было. На его месте, как мне показалось издали, торчал одинокий обугленный столбик.
Но вот столбик шевельнулся и пошел мне навстречу.
Ромка...
— Я не знал, что дома с нашлепками уже нет, — сказал он грустно, подойдя ко мне. — Снесли... Как и не было.
Ромка очень изменился. Угрюмый, подавленный, как старик, изнуренный болезнью. И одет во все черное: шляпа, пальто, брюки, ботинки. Только у шеи снежно белеет полоска шарфа.
Он даже не отчитал меня за опоздание. Выдернул из моего кармана шарф, обмотал мне шею, застегнул пуговицы: «Простудишься, распахнулась!» Потом ловко, в один прием, стащил с меня перчатку, взял за руку. Мне показалось, будто я сунулась в снег — такими холодными были Ромкины пальцы.
Я старалась угадать: зачем так вдруг и так срочно понадобилась ему? Телеграммой вызвал.
— Не знаю, что мне делать, — уныло произнес Ромка. — Не знаю... Может, все-таки лучше уехать отсюда?
— Зачем?! Куда?..
— Сам не знаю.
— Это называется куда глаза глядят.
— Что-то в этом роде.
— А как же завод?
— Заводы везде есть.
Мы долго шли молча. Ромка чуть впереди, тащит меня за руку как буксир. Всегда так. Я не раз пыталась идти с ним рядом или немного впереди, но он упорно вырывался вперед, будто не хотел уступать мне первенство в каком-то странном соревновании. Но руку мою он не отпускал никогда. И за это спасибо.
— Знаешь, Саша, что мне кажется главным в жизни? Быть кому-то нужным. Чтоб без тебя не могли обойтись. Только для одного этого и стоит жить. А без меня прекрасно обходятся. Никому я не нужен. Лишний...
Мне-то понятно это чувство.
— Почему ты молчишь? — Ромка с силой сжал мою руку, бедные пальцы ноют, как мозоли на ногах, втиснутых в узкую обувь.
Я улыбнулась. «Что ему сейчас сказать? Не уезжай, пожалуйста, ты мне нужен. Разве не видишь, как я люблю тебя...»
— Ты здорово изменилась, Саша.
— Ничего я не изменилась.
— Скажи хоть что-нибудь! — взмолился Ромка.
Я засмеялась:
— Пожалуйста: печальный чибис часами чистит чубчик кучерявый.
Ромка вздохнул.
«И ты научился вздыхать?»
Незаметно мы оказались на моей улице. Неужели Ромка сказал уже все, что должен был сказать, и мы сейчас расстанемся?
Мой дом уже виден. Но как мне хочется, чтобы он превратился сейчас в птицу, выждал, когда мы подойдем ближе, и упорхнул бы! Мы к нему, он от нас, все дальше и дальше. Не хочу, чтобы Ромка вот так сразу ушел.
Удивляюсь, почему он не зовет меня сегодня к Лиле?
Останавливаемся у наших ворот. На всей нашей улице нет таких красивых железных ворот с подвесной калиткой. Сверху на среднем зубце торчит чья-то старая шапка с оторванным ухом; всегда на этих зубцах что-нибудь висит или торчит — мальчишки забавляются.
Мимо нас прошествовала обнявшаяся парочка. Ремешок от транзистора они озорно набросили на шеи, и приемник величиной с папиросную коробку «Друг», поющий колоратурным сопрано, висит у них спереди как медальон, один на двоих.
Я позавидовала девушке.
— Мне надо серьезно поговорить с тобой, Саша.
Наконец-то Ромка отпустил мою руку. Я пошевелила непослушными пальцами: они словно в тисках побывали.
Ромка нахмурился. На лбу у него появилась незнакомая глубокая морщина и тут же возникла еще одна, вертикальная, над переносицей, она как бы перечеркивала ту, большую.
Мы вошли в наш двор, постояли у дота — серой каменной глыбы с прищуренным окошком. Дот остался еще со времен войны. Его не взорвали из-за опасения, что пострадают ближние дома. Так и стоит он в нашем дворе, окруженный молоденькими, еще не крепко прижившимися в новой земле елочками, как мавзолей.
Ромка снова взял мою руку. И ему, видно, не хочется отпускать меня.
— Мы к нам могли бы зайти — сказала я нерешительно, — но тетя Ира...
— А давай ко мне? То, что я хочу сказать... Улица не место...
Я колебалась недолго. А почему бы мне, действительно, не пойти к Ромке? Я там бывала не раз. Правда, давным-давно, когда мы учились в школе. Но мне так хочется посмотреть, как живет сейчас Ромка!
— Что ж, можно.
Две автобусные остановки — и мы у Ромкиного дома. Сколько лет я не заходила в этот двор? Сто? Нет, тысячу...
Крадучись, притаив дыхание, будто эти предосторожности могли превратить меня в случае надобности в человека-невидимку, я поднималась в Ромкину квартиру, как безбилетник на манящий своей таинственностью пароход. И только когда мы оказались в комнате, я перевела дыхание: если даже и постучится кто, можно не отозваться.
Когда-то мы с Лилей и Ромкой собирались в этой комнате учить уроки. Вот за этим круглым столом, большущим и неустойчивым, приходилось подкладывать под одну ножку свернутую бумагу; под этой люстрой — стеклянным золотистым шаром. Ромка любил щелкать по нему пальцами. Щелкнет и прислушивается к звону. И еще он любил забираться на подоконник и свешивать ноги во двор. Все, кто видел это, возмущались, вразумляли глупого мальчишку, но он был недосягаемым.
Ромка учился плохо, некому было его подстегивать. Родители его погибли трагически: переходили замерзшую реку, под ногами у отца треснул лед, он провалился. Мать подползла к нему, протянула руку, но вытащить не смогла. Утонули оба. Говорят, что на руке у женщины был глубокий укус, почти до кости — муж хотел, чтобы она отпустила его, понимал, что все бесполезно, но она до последней минуты надеялась.
К Ромке переехал брат отца, он часто разъезжал по командировкам, и мальчик был предоставлен самому себе: просидел два года в пятом классе, ухитрился остаться и в седьмом, но это, говорят, из-за Лили, чтоб быть с ней в одном классе. Мы вместе учились с седьмого класса.
Недавно Ромка признался: «А ведь это ты, Саша, закончила за меня среднюю школу! Без тебя и не вылез бы из нее!..»
Вот и я заработала благодарность...
Лиля в этой комнате устраивалась на кровать, нравилось ей, как визжали старые пружины; Ромка забирался на подоконник, даже если окно и не было открытым; а я присаживалась к столу и вслух читала заданный материал, прекрасно зная, что ни Ромка, ни Лиля меня не слушают, думают о чем угодно, но только не об уроках, — надеялись, что я вызволю.
Все здесь оставалось на своих местах. Только со стола убрали заляпанную чернилами клеенку, а кровать с визжащими пружинами заменила тахта, покрытая клетчатым пледом.
Из нас троих только Лиле посчастливилось поступить на заочное отделение текстильного института, и сейчас она работает на нашей фабрике сменным мастером аппаратно-прядильного цеха. Ромке и мне учиться дальше не пришлось...
— Что же это мы стоим? — спохватился Ромка. Он тоже, видно, вспоминал что-то.
Помогая мне снять пальто, он обнял меня сзади за плечи, ткнулся в шею холодным носом, неловко поцеловал.
Что с ним сегодня такое? Откуда вдруг вспышка нежности ко мне?
— Если честно, кроме тебя, Саша, у меня никого... И ничего, — сказал он, как бы подслушав мои мысли. — И ничего...
— А Лиля? — шепотом спросила я.
— Лиля? Звезда в небе — любуйся ею сколько угодно, можешь считать своей...
У висевшего на гвозде круглого зеркала (раньше на нем не было трещины) я причесалась, напудрила нос. А щеки-то как раскраснелись на морозе! Одернула свою новую зеленую кофточку (вместе с Ольгуней мы ее выбирали), повернулась к Ромке, мысленно призывая, чтобы он посмотрел: я неплохо выглядела. Но он перекладывал что-то из кармана в карман своего пальто.
Не сговариваясь, мы разом сели к столу, и тут выяснилось, что нам не о чем говорить. Ромка смотрел на занавешенное окно, а я заглядывала под стол: исправили короткую ножку или до сих пор подкладывают бумагу? Стол не качался, и бумаги ни под какой ножкой не было.
Иногда Ромка поглядывал на меня и по старой, нравившейся мне привычке убирал растопыренными пальцами, как расческой, падавшие на лоб волосы. Волосы у него русые, густые, он часто приглаживает их назад то расческой, то пятерней, но они не хотят лежать так, как хочет их хозяин, разбрасываются по сторонам, лезут в глаза. Глаза у Ромки неспокойные, и улыбается он, как прежде, не открывая рта. Хотелось бы отучить его от этой привычки.
— Расскажи, что ты делаешь на своем заводе? — спросила я: надо же было о чем-то говорить! — Взял бы и пригласил меня в свой цех, хочется посмотреть, что ты там делаешь, как у тебя получается?
— Делаю пока что мало. Учусь. Наша бригада собирает воздухоочистители для тракторов. — Ромка долго расчесывал пальцами свои непослушные волосы. — Как тебе лучше объяснить? Берется, значит, поддон. Представь крышку от большой кастрюли, но только без ручки. На него ставится кассета. Ты видела, конечно, решетку в цирке? Ну, когда выпускают на арену зверей? Форма кассеты точно такая, но размером с ведро. На кассету идет диафрагма, она выполняет такую же функцию, как и твоя. — Ромка улыбнулся, губы его превратились в узкую полоску с загнутыми кверху уголками. Как у Буратино.
Улыбался бы он нормально, как все люди! Скажи — обидится. Мне он не прощал ничего, зато Лиле — все. В прошлое воскресенье она, например, при муже брезгливо сказала Ромке, когда он сидел за столом и пил чай: «Фи, какой у тебя чернозем под ногтями! Пойди сейчас же вымой руки!»
Я была уверена, что Ромка обидится и уйдет тут же, а он, с красными ушами и виноватой улыбкой, отправился в ванную, а когда вернулся к столу, показал Лиле руки, как мы показывали их в школе дежурному по классу.
— ...потом все это накрывается корпусом, — услышала я, — и стягивается специальными стяжками, чтоб не рассыпалось. Поняла?
— Приблизительно.
— Но не думай, что это легко и просто. Чтоб такой узел собрать... примерно операций шестьдесят делается прежде, чем эти части окажутся пригодными для сборки. Вся бригада налаживает и подгоняет детали.
— Ты доволен своей работой?
— Нравится. Бригада хорошая, зарабатываем неплохо.
— А с учебой как?
— Пока никак.
— И у меня не лучше, — призналась я, вздохнув. — Но знаешь, что со мной бывает? Снится, будто я поступаю в институт и не получаю нужный балл, проваливаюсь. Или еще хуже: уже учусь, а меня исключают за неуспеваемость. Просыпаюсь в слезах. Так хочется учиться!
— А кто тебе не дает?
Я промолчала. Не хотелось признаваться, что боюсь провалиться на экзаменах, — сейчас такие конкурсы в вузы. Не верю, что смогу как следует подготовиться, руки опустила.
— Чтобы стать хорошим слесарем-сборщиком, институт кончать не надо, — сказал Ромка. — Достаточно и десяти классов... Лиля говорит, что ты неплохо чувствуешь себя на фабрике.
— Привыкла.
«Лиля говорит... Он бы мог это узнать от меня!»
И снова долгое, томительное молчание. На этот раз Ромка что-то отыскивал под столом, а я смотрела на оконную портьеру — кто-то умудрился повесить ее неправильно: оранжевые березки, разбросанные по кремовому полю, висели верхушками вниз.
— И знаешь, что мне еще часто снится? — опять прервала я молчание. — Море. Видела его только в кино и во сне. Вот бы съездить к Черному морю!
— Неплохо бы...
— А знаешь, как родилось Японское море?
— Японское? — переспросил Ромка.
Как бы мне хотелось знать, о чем он сейчас думает!
— Сто миллионов лет тому назад, — произнесла я тоном учительницы, — на Дальнем Востоке произошел крупный разрыв земной коры. На этом месте и возникло Японское море. А Японские острова до сих пор уплывают в океан.
— Как это — уплывают? — удивился Ромка.
— Очень просто. — Мне хотелось втянуть Ромку хоть в какой-нибудь разговор, расшевелить его. — За последние шестьдесят лет, например, они передвинулись на восток на два метра... А Каспийское море мельчает.
— С чего бы это?
Кажется, Ромку это интересует.
— Есть такой залив — Кара-Богаз-Гол, то есть Черная пасть. От нее-то и все беды. Она заглатывает ежегодно, кто бы мог подумать, двенадцать миллиардов кубических метров воды, а назад Каспию не возвращает. Это такая огромная испарительная чаша... Ученые занимаются этим сейчас, плотина будет строиться...
— Саша! — На Ромкином лбу возникла продольная и тут же ее перечеркнула вертикальная морщина. — Не умеем мы разговаривать, мне с тобой молчать хорошо. Я хотел... Не могу больше так... Заходил сегодня туда, выбрал момент, когда Олег Семенович ушел куда-то, подкарауливал на противоположной стороне улицы, представляешь? Дожил... Вошел и говорю: «Надо решать что-то определенное, уходи от мужа, объясни ему все, надоела канитель. Если нет — уеду!» А она: «Ну и катись!» Не успел к двери отойти, подбежала, кинулась на шею: «Не могу без тебя, люблю!» — «Тогда зачем же ты на двух стульях сидишь?» Заработал пощечину: «Пошляк!» Надоело мне все это, до чертиков надоело!..
Я неожиданно икнула, да так громко, что сама испугалась: надо же в такой момент!
Ромка вскочил, распахнул пиджак.
— Иди сюда, а то весь дом по тревоге поднимешь!
Как уютно под Ромкиным пиджаком! Сердце стучит возле моего уха крепко, сильно. Затаив дыхание, я трижды просчитала до одиннадцати, — говорят, должно помочь. Не знаю, от этого ли, от чего другого, но икать я перестала, высвободила голову, спросила:
— Что ты хотел мне сказать?
Ромка выпустил меня.
— Саша, милая, — сказал он, не глядя на меня, — помоги, одному мне не справиться, силенок в обрез.
— Я готова тебе помочь, но как и чем?
— Ты бы вышла за меня замуж?
Все мои беды и переживания показались ничтожными по сравнению с тем счастьем, которое свалилось на меня неожиданно.
Невероятно...
— Саша, поверь, я долго думал, колебался... Я шел к тебе с этим... Телеграмму даже послал... Боялся, что не придешь. Ты замечательный человек, Саша.
— Этого мало. — Я вздохнула. — Ты ведь не любишь меня.
— Ты мой единственный настоящий друг, Саша... Увидишь... Поверь... Пойми...
Если бы я попыталась рассказать кому, что делается сейчас в моей голове, в моем сердце, ничего внятного и определенного от меня не услышали бы. Во мне сцепились, упорно отвоевывая свое, радость, страх, надежда, сомнение. Я знала, что разумней всего сказать «нет», но я знала и другое: нельзя сейчас отталкивать Ромку, мое согласие может спасти его от отчаяния, от подлости, которую они с Лилей совершают по отношению к Олегу Семеновичу.
А вдруг и он ответит любовью на мою любовь? Пусть не сейчас, не сразу...
— Что ты долго молчишь? Саша...
Какой у Ромки грустный голос.
— Не могу поверить этому, не могу.
— А ты поверь!.. Я могу сейчас проводить тебя домой, подумай, но... лучше останься со мной, пожалуйста, сейчас и навсегда. Если любишь...
Не сводя с меня взгляда, Ромка спиной придвинулся к выключателю, поднял к нему руку, но не торопился нажать кнопку, терпеливо ждал моего решения. А какими молящими глазами он на меня смотрел!
Не жалость к Ромке меня оставила с ним. Я почувствовала себя сильной, способной сделать счастливым любимого человека. Не ему я доверялась сейчас, а он мне.
— Не уйду, — сказала я, не слыша своего голоса. — Не бойся, никуда не уйду...
Щелкнул выключатель. В комнате стало до того темно, что я невольно зажмурилась. Послышались осторожные шаги, они все приближались.
Мне вдруг захотелось крикнуть: «Включи свет!» — захотелось выскочить из этой комнаты и бежать, бежать, но Ромка был уже рядом, я слышала его теплое дыхание, его руки искали меня...
Глава вторая
МОЯ ФАБРИКА
Моей фабрике сто тридцать лет.
Начала она свою жизнь с красильни, построенной купцом «из немцев», а затем разрослась в акционерное общество суконной мануфактуры. Предприятия, в которых применялся ручной труд, назывались мануфактурами. А старые люди до сих пор говорят: «Я нынче купила себе на юбку три метра мануфактуры...»
Сегодня суббота.
Выходной день.
Но не для нашей фабрики.
Евгения Павловна, директор, объявила тревогу: с планом дела плохи, а случая, чтобы мы не выполнили плана, еще не было. Не было этого даже во время войны, когда в непомерно тяжелых условиях, голодные, усталые женщины ткали сукно для солдатских шинелей.
— Дорогие товарищи женщины! — обратилась к нам Евгения Павловна на внеочередном собрании. — Помощи нам ждать неоткуда, так что надежда только на собственные силы.
Собственные силы — это инженерно-технические работники. Выручатели! Два дня в месяц они отрабатывали смену на чистке суровья или мотке пряжи, причем в свои свободные от работы дни или часы. Все это воспринималось как должное. Коллектив у нас дружный.
Я тоже отрабатываю свой «вклад» на чистке суровья.
Суровье — это еще не отделанная и не окрашенная ткань. Она поступает в отдел штопки из нашего цеха, ткацкого, прямо со станков. Ее чистят, штопают, потом моют в специальном растворе, отжимают, ворсуют, всего не перескажешь, одним словом, немало надо потратить сил и времени, чтобы превратить грязно-серые клочья шерсти в добротную ткань, довести продукцию до состояния готовности.
Почему, если есть возможность поспать, не спится? А вот сейчас... Нехотя вылезаю из-под одеяла, дотягиваюсь рукой до батарейных ребер — чуть теплятся. Холодно что-то. Накидываю халат и бегу в ванную. Очень люблю напустить полную ванну горячей воды, залезть туда, запрокинуть голову, а уши заткнуть пальцами, и чтобы на поверхности оставался только один нос, как перископ. Какое это удовольствие! Сегодня возиться с купанием некогда. До работы надо еще успеть съездить на рынок, купить Лиле цветы — сегодня у нее день рождения, исполняется двадцать лет. А мне двадцати еще нет. Я моложе Лили на полгода.
Я позавтракала, стоя у плиты, ела прямо из сковородки — не надо будет тратить время на мытье посуды. Картошка подогрелась, а котлета не успела, что-то она сегодня как резиновая.
Вышла из дому в стужу. А что, если никто не привезет так рано цветов на рынок?
Утро серое, сизое. Тяжелое небо нависло над улицей, спрятало крыши домов. На мокром черном асфальте, словно в лужах, отражается расплывчатый свет фонарей. У меня такое ощущение, будто я ступаю по стеклу.
Трудно представить, что вечером валил липкий снег и что в густой колючей беловерти не было видно ни одного темного предмета. Но никакая непогода не может испортить мне настроения: сегодня мы с Ромкой пойдем к Лиле, а потом... Пусть это «потом» будет, пусть.
Вспоминается одно важное событие в моей жизни. В нем участвовал Ромка. Он как чувствовал, что ему придется защищать меня всю жизнь. Учился в нашем классе один забияка по фамилии Жучок. Его боялись все. Делал он что хотел: то шапку с кого-нибудь стащит и ну топтать, то тетрадку порвет, а то ни за что ни про что влепит затрещину. Кто пожалуется — получит добавку.
И вот этот самый Жучок залил чернилами классный журнал — закрасил свои двойки. Учительница, естественно, расстроилась.
«Кто это сделал?»
Молчим.
«Я вас спрашиваю — кто это сделал?»
В ответ ни звука.
И тут сама не понимаю, как у меня хватило смелости сказать:
«Жучок, встань. Это он...»
Он встал и выпустил сквозь стиснутые зубы:
«Это тебе, Нилова, даром не пройдет, получишь свое...»
Я действительно «получила свое». Жучок подкараулил меня в пустом коридоре, разогнался как бык на красное полотно и сбил с ног. Я вскрикнула от боли, от стыда, а когда поднялась, увидела, что Ромка бьет Жучка портфелем по голове, а Жучок все приседает и приседает, будто вколачивается в пол. Ромка приговаривает:
«Еще раз тронешь Нилову, голову оторву».
Я была счастлива...
Как сейчас. Сегодня мы встретимся, Ромка зайдет за мной вечером, к нам зайдет. Не боюсь я теперь никого: ни папы, ни тети Иры тем более. У меня скоро своя семья будет...
Я влилась в торопливый поток нахохлившихся людей. Не думала, что в выходной день да еще в такую рань на улице столько народу, — куда они все торопятся?
Один мудрый человек сказал, когда его спросили, что такое счастье: это когда тебе утром хочется идти на работу, а вечером хочется идти домой. Вот и выходит, что я счастливый человек!
Чтобы попасть на работу к восьми утра, мне надо вставать в шесть. Автобусом добираться ровно сорок пять минут, трамваем — час. Предпочитаю трамвай — в нем удобней читать. И время летит незаметно, и целых два часа с книгой. А если еще и место освободится! Ехать в трамвае удобно, почти не трясет (старых вагонов в нашем районе нет и в помине!), за остановками следить не надо — у фабрики кольцо.
Мой трамвай плавно подкатил к остановке, дверца распахнулась как раз передо мной, будто приглашала: «Пожалуйста, Нилова, на свое любимое место у окошка!»
С сожалением провожаю взглядом почти пустой вагон: жду автобуса. На рынок можно подъехать только автобусом. Я всегда дарю Лиле в день ее рождения цветы. Она же никогда мне ничего не дарит, зато извиняется громко и бурно: «Сашенька, а ведь я забыла! Вылетело из головы, приготовила деньги, дай, думаю, побегаю по магазинам, выберу что-нибудь... И нате, забыла!»
Подошел переполненный автобус. У меня большой опыт забираться в переполненный городской транспорт, в любую щелку пролезу, если надо.
На второй остановке меня буквально втиснули на освободившееся у окна место, рядом плюхнулся старик без шапки, он засунул ее за борт пальто — так Ромка носил раньше книжки. Старик пахнет овчиной. Над ним, держась обеими руками за поручни, повисла женщина в распахнутой рыжей шубке. Пола шубы трется о лицо старика. Он поворачивает голову то в одну сторону, то в другую, будто специально подставляет под чистку обе щеки. Я обернулась и увидела сидящую позади меня нашу директрису. Вот так встреча! Куда она едет так рано? Еще подумает, что я увильнула от работы.
— Доброе утро, Евгения Павловна!
— Здравствуй, Саша...
«Бабье царство» у Евгении Павловны большое, но она знает всех наперечет. Появится новенькая, вызовет и расспросит о житье-бытье.
А автобус все набивается и набивается. Начинаю беспокоиться: вдруг не удастся выйти у рынка? Говорю об этом соседу-старику.
— Выйдем, не бойся, — успокаивает он меня. — Я тоже туда, за мной держись.
Когда мы поднялись, женщина в рыжей шубе заговорила на весь автобус:
— Вон она, молодежь нынешняя, развалятся как на именинах, а пожилые стой, труди ноги!
— Пошто ты на нее окрысилась? — вступился старик, взмахивая рукой, мне даже показалось, что он хочет оттолкнуть женщину. — Ее самою придавили к сиденью!
Я повернулась: моя директриса, конечно, все это слышит. Но на месте Евгении Павловны сидела другая женщина.
На рынке уйма мимоз — желтое кипенье, первые южные гости, веточка — рубль. Выбрала пять веточек, не могу удержаться, чтоб не поднести к лицу — пахнут свежестью, весной. Порадую подружку.
Успеваю добежать к уже тронувшемуся автобусу, хватаюсь за чью-то протянутую руку, вскакиваю на подножку, и сразу дверь сдвигается за моей спиной, прищемляет мое пальто, оно сейчас как дверная прокладка. Кто-то прошелся уголком портфеля или сумки по моей ноге. Не так больно, как жалко капроновые чулки — первый раз надела эти дорогие недолгожители.
Думаю о Лиле. Она тоже должна сегодня выйти на работу, поэтому я и хочу первая поздравить ее. Никак не могу поверить, что она замужем не за Ромкой. Кто бы мог подумать, что его женой стану я! Вступлю в брак. Какое неуютное слово! Как удар хлыста, как сердитый окрик! Брак! Вчера я заглядывала в энциклопедию, специально пошла в читальный зал, хотелось увидеть это слово в книге, которая все знает. Но какие разные понятия у одного и того же слова!
«Брак — оформленный в законном порядке союз мужчины и женщины... важнейший институт советского семейного права...»
И тут же: «Брак (в производстве) — недоброкачественная и некомплектная продукция, выполненная с нарушением обязательных стандартов...»
Я-то знаю, что такое нарушение обязательных стандартов: работаю техконтролером ткацкого производства. Пряжа, выработанная на прядильной машине, должна иметь заданный номер, крутку, прочность, удлинение и обладать равномерностью этих показателей. Мое дело следить, чтобы эти показатели не отклонялись в ту или иную сторону за пределы установленных норм. С браком воевать нелегко: все от него отказываются, сваливают вину один на другого, оспаривают неоспоримое.
Стоит техконтролер, страж качества, на границе двух цехов: ткацкого и аппаратно-прядильного.
С одной стороны, прядильщики наседают:
— Ты чего к нам придираешься, Нилова, строчишь акты-доносы, с нас выработку снимают. И цех страдает, план снижается. Совесть у тебя есть, товарищ Нилова?
Ткачи тянут за другой рукав:
— Саша, зачем ты потакаешь бракоделам? Тут надо в оба смотреть, а ты глаза закрываешь. Прядильщики то мушковатую пряжу нам подсунут, то неровнота сплошная, нитки то и дело рвутся, терпение лопается. С каких это пор техконтролера перестало интересовать качество пряжи? Куда девалась твоя совесть, Саша!
Вот так я и кручусь-верчусь.
Труднее всего мне работать с Лилей. Она сменный мастер в аппаратно-прядильном цехе, а я в этом цехе проверяю качество пряжи, здесь находятся все нужные мне приборы: мотовило, квадрант, весы, ящики с початками — пряжей, намотанной на шпули, внешне напоминающей кукурузные початки.
Акты на забракованную прядку в первую очередь должен подписать сменный мастер, Лиля то есть, а затем уже прядильщица и начальник цеха. Но Лиля такие акты подписывать не любит, отвиливает всячески — не хочется ей портить отношения с работницами:
«Что я могу с Ниловой сделать! Говорила не раз...»
Я с Лилей тоже «говорила не раз». Даешь ей акт, она повертит его в руках, покрутит, потом скажет:
«Плохой прочес? А это что? Несортная пряжа по номеру? Хорошо, Сашенька, я сначала проверю, потом подпишу...»
Проверять ей не обязательно: я никогда не подводила. К тому же Лиля работает на фабрике без году неделя, а я три года, в небрежности меня никто еще никогда не упрекнул. Но у Лили свой расчет: тянет время.
Подхожу к ней на другой день:
«Ты подписала акты?»
«Нет еще, Сашенька, не успела, столько дел! Сейчас у начальника совещание будет, а после я займусь актами, непременно займусь».
Слова!
Зато на третий день она сама меня ищет:
«Сашенька, а где те ящики с забракованной пряжей? Искала их, искала. Давай вместе поищем. Надо же оформить акты и сдать в бухгалтерию!»
И смотрит на меня ясным, чистым взглядом.
А между тем мы с ней прекрасно знаем, куда девалась пряжа. Сработана! Понадобилась ткачам, ее подняли наверх и пустили на станки. Ткачи простаивать не могут, это дорого обходится фабрике...
— Эй, девушка! Вы обратно поедете или за простой платить согласны?
Шофер автобуса смотрел на меня веселым взглядом. В машине только мы с ним.
— Извините.
— Ничего, бывает...
Пять минут быстрой ходьбы — и я на фабричном дворе.
Два мрачных пятиэтажных здания из бурого кирпича, с железными ставнями на окнах первого этажа будто зажали плечами, поддерживая, своего младшего, четырехэтажного брата. И от того, что к зажатому дому пристроена веранда, выходящая метра на два вперед, выкрашенная грязно-серой краской, сам дом издали казался висящим в воздухе, а веранда — широким проходом под ним, скрытым туманом. Никогда я не могу отделаться от этого ощущения.
У входа бросался в глаза транспарант с крупными буквами: «Сегодня работать лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня!»
По узкой, пахнущей лаком деревянной лестнице с только что вымытыми ступеньками я поднялась на пятый этаж — в красный уголок ткацкого цеха. Здесь, за шкафом у окна, мое рабочее место — небольшой письменный стол, покрытый куском темно-синего сукна, придавленного толстым стеклом. Оно так блеснуло в полумраке, что мне на какой-то миг показалось, будто на столе пролита вода.
Я поставила мимозы в литровую банку с водой — здесь они дождутся Лилю, сняла пальто, повесила в шкаф, переоделась в халат, потом постояла немного у окна. Фабрика стоит на берегу речушки, и отсюда кажется, будто я плыву сейчас на пароходе, который, содрогаясь от непомерных усилий, с трудом продвигается в темной густой воде.
— А я думала — здесь никого! — сказала, входя, Ольгуня. Она включила свет. — Ты чего это в темноте, Саша Нилова, доброе утро!
— Здравствуйте.
Ольгуня напросилась раздеваться в моем шкафу: «Не люблю в раздевалке, на людях. Я тебе не помешаю?» Что я могла сказать кроме того, что не помешает?
Ольгуня переоделась в платье без рукавов — так положено по технике безопасности, повязала косынку. Ей и без косынки работать можно, она так тщательно, так гладко всегда причесана, что кажется, будто кожа на лбу оттягивается назад, а глаза даже меняют форму, поднимаются уголками вверх. В ушах покачиваются серьги с топазом. Сейчас Ольгуня снимет их, завернет в носовой платочек и сунет за лиф. А в обеденный перерыв наденет снова. У нас все женщины так делают. Каждой хочется похвастаться перед подругами своими украшениями.
Ольгуня сунулась носом в мимозы.
— Как желтенькие цыплятки, прелесть! Это кому?
— Мурашиной. У нее сегодня день рождения.
— А-а...
Я пошла на третий этаж в отдел штопки. Это длинное, светлое и самое тихое помещение со множеством столов, стоящих друг за другом, как парты, напоминало школьный класс.
До начала смены оставалось еще время, но женщины уже работали, на столах лежало суровье.
Лили еще не было.
Моей соседкой по столу оказалась наш главный бухгалтер. Она помогла мне поднести и раскинуть на столе край суровья — это было «домино», ткань в мелкую яркую клетку: желтую, зеленую, красную, она предназначалась для легких пальто. Я провела по ней ладонью — шершавая, взъерошенная, в готовом виде она красивая, мягкая.
За моей спиной кого-то успокаивали:
— Не переживай, научишься! Видишь, вот это «домино», а это «комета», отличай ее по крупной клетке. Обе эти ткани получили на художественном совете Министерства легкой промышленности высокую оценку.
Я невольно прислушивалась к разговору женщин, работающих со мной в одном ряду. Они говорили о том, как бы помочь получить двухкомнатную квартиру семье Удодовых. Муж, жена и дочь, теперь уже молодой специалист, живут в одной комнате. Работают они в разных сменах, так что ни телевизор нельзя включить, ни радио, ни гостей позвать: обязательно кто-нибудь спит, отдыхает после смены.
— Зато директриса вдвоем с мужем трехкомнатную квартиру занимают! — раздался возмущенный голос.
— Ты Евгению Павловну не трожь! — возразил кто-то. — Будешь ты директором, и тебе трехкомнатную дадут. Хоромы... Третья комната у них как пересыльный пункт: кто приедет на фабрику, в гостинице места нет — туда. Так что помалкивай, если не знаешь...
Мне предстояло внимательно, сантиметр за сантиметром, просмотреть весь кусок ткани (длина его примерно двадцать — двадцать один метр), срезать узелки, если попадутся, выдернуть утолщенные нити или подтянуть слабины. Самое трудное — штопка — поручалось только опытным работницам, они филигранно заделывали дырки.
Я взяла специальные щипчики и принялась за работу. Так увлеклась, что не заметила, как подошла ко мне Лиля.
Лиля на фабрике самая красивая женщина. Это признано всеми. Сегодня она пришила к халату белый кружевной воротник. Она даже в рабочем халате выглядит элегантно, празднично. Ее ежедневной прическе может позавидовать любая модница.
Носит она только босоножки, из них выглядывают маленькие пальчики с накрашенными ногтями. В цехе и зимой можно без чулок — круглый год жарко.
Лиля пользуется своей внешностью в полную меру, кокетничает напропалую, кружит головы всем подряд.
Если надо кого-то в чем-то убедить или уговорить, обращаются к Лиле. Для каждого она найдет подход: к кому с лаской, к кому с хитростью, общепризнанный дипломат, одним словом.
А со сверхурочными работами?
Одна только Лиля и может повлиять на заупрямившихся слесарей. Минуту назад человек упирался, отнекивался, выискивал сотни уважительных причин, лишь бы не задерживаться на фабрике после смены, грозился даже подать заявление на увольнение, а вдруг от нескольких ласковых слов сменного мастера Мурашиной, от ее белозубой обворожительной улыбки он терял свою несгибаемость.
— Лиля. — Я улыбнулась. — Поздравляю тебя с днем рождения, желаю самого, самого... — Я хотела обнять ее, но она неожиданно отстранилась.
— Как ты могла на такое решиться, Саша! Ромка мне все рассказал... Он же никогда на тебе не женится, я-то уж наверняка это знаю. А вдруг ребенок?!
— В ткацком, наверху, для тебя цветы, — сказала я громко. — На моем столе. Возьми их. Иди, иди, возьми!
Лиля округлила глаза и послушно направилась к двери.
Глава третья
ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА
Отец мой работал, как, впрочем, работает и сейчас, шлихтовальщиком на ткацкой фабрике. Но, кроме того, еще и подрабатывал: кому краны заменит, кому газовую плиту перенесет, кому рамы покрасит. Деньги за эти работы он называл «подкожными».
— Это мой неплановый доход! — защищался он от маминых нападок. — Законную получку я тебе всю вытряхиваю, на спички себе не оставляю. А тут и сам не внакладе и людей выручаю!
— А ты выручай людей бесплатно, — советовала мама.
Отец водил указательным пальцем перед ее носом:
— Э нет! Я еще не дорос до такой сознательности. Да меня ж сами люди чудиком обзовут!
Почти всегда после своего приработка он приходил домой навеселе.
Мама сердилась:
— Забирай, Сергей, свои шмотки и уходи, не нужен мне такой.
Отец опускался на колени, подносил к подбородку сложенные, как для молитвы, руки и каялся:
— Виноват, Валентина, прости ты меня, непутевого! Сделай божеское одолжение: хрястни меня по морде, разок хрястни, Валентина, заслужил!.. И чтоб я еще когда эту погань в рот взял? С завтрашнего дня начну новую жизнь...
В дни «новой жизни» он почему-то тщательно причесывался, на мокрой прилизанной голове белел пробор-струнка. А когда он «сбивался с пути», по его же словам, входил в комнату чинно, причесанный, садился к столу и вдруг, вскрикнув: «Э-э-эх!», лохматил волосы.
Мама только головой качала.
Но и папа, в свою очередь, нападал на маму: она любила носить обувь на высоких каблуках, хотя сама была высока ростом.
— Валентина, поимей совесть, выброси свои ходули! — просил он. — Хочется тебе, чтоб муж рядом бобиком скакал? Унизить мужа хочешь, угадал, Валентина, скажи?
Мама смеялась:
— Твои глупые слова, Сергей, совестно слушать, хоть уши затыкай. Не могу без каблуков, все равно что босая, будто не идешь, а шлепаешь по земле. Не могу, и все.
— Упрямый ты человек, Валентина, скажи спасибо, что тебе муж покладистый достался, другой бы спуску не дал: ходули в печку сунул да еще по столу хвать кулаком — уважай мужа!
— Отстань, Сергей, поговорили, и ладно, все равно каждый при своем интересе останется.
Так оно и было.
Что отец любил маму, я не сомневалась.
А потом... Мама умерла. Тогда мне было семь лет.
Отец с горя запьянствовал. К нему стала приходить «подруга жизни» — веселая полная женщина по имени Груша, которую отец называл Фруктом, — они работали на одной фабрике.
— Что-то выпить охота, в горле зудит, — говорил отец, лукаво поглядывая на женщину. — Может, ты, Фрукт, составишь компанию?
Груша хохотала:
— От всего могу отказаться, но от выпивки?..
Груша приходила часто. Со мной она явно заигрывала:
— Сашок, а я селедочки купила, давай вместе картошку почистим, пир устроим!
Отец, довольный, поглядывал на водку, которую принесла эта женщина, потирал ладони:
— Гляди ты, родимую приволокла! Есть же на свете сознательный женский пол! Из миллиона десятка не наскребешь, а все ж есть. Сейчас мы с тобой, Фрукт, причастимся с особым удовольствием! Жалко, что дочка мала, и она бы составила нам компанию.
Фрукт лукаво подмигнула отцу:
— Ой, совсем забыла! И для нее есть коньячок в десять звездочек! — Она поставила на стол бутылку лимонада.
Мне все было противно: и Груша, и ее сладенький голос, и лимонад. И жалко маму. Здесь все мамино, все сделано ее руками, куплено ею, а эта... пользуется папиным горем. Спаивает его.
Я не могла с ними оставаться и уходила на улицу. Меня не удерживали.
Слоняться поздним вечером по двору было страшно, и я пряталась за дот, садилась под стеной, подтягивала колени до самого носа и думала о доброй фее, которая обязательно придет ко мне, взмахнет рукой и скажет: «Не надо плакать, Саша, присмотрись-ка получше к себе: ты же не такая, какой себе кажешься! Встань и посмотри!»
Я встаю, оглядываю себя и замираю от восторга: я большая, сильная, а одета как! Платье из серебристой парчи, волосы длинные, золотистые, на лбу диадема. Ну принцесса и только. «А теперь идем к тебе!» — зовет фея. Мы летим с ней в нашу квартиру, выгоняем Грушу, а папу предупреждаем: «Еще раз повторится такое, чтоб ребенок на улице мерзнул, чтобы страдал без мамы, пеняй на себя!»
Отец бухается на колени, просит прощения: «Хрястни меня по морде, Саня, хрястни разок, и чтобы я еще когда пригласил к нам Фрукта, боже упаси!»
Фея говорит: «Драться стыдно. А ты, Саша, если я тебе понадоблюсь когда, хлопни три раза в ладошки, и я приду. Ничего теперь не бойся!»
Я ждала фею каждый день, но вместо нее приходила Груша.
Им каждый раз не хватало того, что приносила. Груша, и за добавкой посылали меня: «На сдачу купишь себе конфет».
Мне не надо было конфет, ничего мне не надо, только бы не ходить за водкой, покупать ее было стыдно до слез, и я всегда просила кого-нибудь: «Пожалуйста, на компрессы надо...» Один раз мне не отдали ни денег, ни водки. Парень, за которым я было погналась, крикнул на всю улицу: «Ты чего ко мне пристала, посмотрите на нее — попрошайка, денег просит!»
Я прибежала домой.
Отец рассердился:
— В кого ты уродилась такая тюха?
Фрукт, вздыхая, полезла в свой кошелек:
— Хорошо, что у меня заначка оказалась. Вишь, пригодилась! Но не будь такой разиней, Сашок! Чтоб водку из рук выпустить? Как же ты собираешься дальше жить? Иди-ка по-быстрому!
И я шла...
Но однажды случилось такое!..
Я подобрала котенка, худющего, замызганного, но, видно, беленького. Фрукт подняла котенка за шкурку, как тряпку, и бросила на пол. Котенок, поджав хвост, спрятался под батарею.
— Ему больно! — сказала я.
— Где ты подобрала его? — закричала Груша. — Из какого мусорного ящика вытащила?
— Под нашей лестницей, — доверчиво призналась я. — Он плакал... Мы его откормим, вымоем, он станет беленьким!
— Отмоем, — согласилась Груша. — Тащи тазик!
Я достала из-под ванны эмалированный таз, поставила его в кухне на пол, налила из чайника теплой воды, принесла мыло и свою мочалку.
Фрукт вытряхнула морковку из холщового мешочка прямо на подоконник и сказала:
— Я сама его выкупаю, а ты садись за уроки. То жалуешься, что заниматься некогда, а то за стол тебя не засадишь!
Она взяла меня за плечи и выпроводила из кухни.
Я не могла долго усидеть за книгой: не терпелось посмотреть на белого котенка. Он как кролик. Только у кролика глаза красные, а у моего котенка зеленые.
В дверях кухни мы столкнулись с Фруктом. Она поспешно что-то спрятала у себя за спиной, приговаривая:
— Всякую погань в дом тащишь, нельзя так! Сейчас я это... выброшу в мусорник и расскажу тебе один случай с кошкой, из-за нее девочка вся лишаями покрылась. Сейчас расскажу, вот только вернусь…
Морковь все еще лежала на подоконнике. Я поняла, что котенка я больше никогда не увижу.
Я закрыла за ней двери на ключ и на цепочку. Груша стучалась долго, сначала упрашивала открыть, потом ругалась. А я плакала до тех пор, пока не пришел с работы папа.
— Или прогони своего Фрукта, или отдай меня в детский дом! — сказала я. — В детском доме мне лучше будет. Отвези меня туда. Если бы мама была жива, разве?..
— Что ты придумала, Саня? — испугался отец. — Какой там детский дом? Да нам с тобой никакие Фрукты не нужны. И плакать больше не надо... Вдвоем будем...
Но жили вдвоем мы недолго.
Груша исчезла, пришла Ира — маленькая худая женщина с большими яркими губами, отчего казалось, будто она постоянно сердится, губы дует. Тетя Ира хотела пополнеть: она и ела много, и все мучное да сладкое, но в весе не прибавляла. Это ее огорчало, а отца забавляло: «Не в коня корм!» Зато тетя Ира не пила водку и отцу не позволяла. Как мама... И никогда не оставалась у нас надолго, как тетя Груша.
У нас была отдельная однокомнатная квартира. Я спала на кожаном черном диване с глубокой вмятиной на середине. Спать было неудобно — проваливаешься, как в яму, и холодно. При маме у меня была своя кровать, но тетя Ира посоветовала отцу заменить ее чем-то более современным, к тому же в девятнадцатиметровой комнате две кровати — это много. Отец послушался. Черный кожаный диван он подобрал у нас во дворе: кто-то избавился от него.
И у тети Иры была отдельная однокомнатная квартира, очень чистенькая, пахнущая ванилином и какая-то ситцевая: желтые обои в мелких красных цветах, почти такого же цвета портьеры и покрывало на кровати. Тетя Ира работала кассиршей в булочной. Меня она как назвала первый раз Санюшкой-голубушкой, так называет и до сих пор.
«Санюшка-голубушка, поехали ко мне чай с тортиком пить? Специально для тебя купила, ты ж любишь с орешками?»
Или:
«А я печенье испекла. Из слоеного теста. Во рту тает. Для тебя, Санюшка-голубушка!»
Но сначала мне поручалось натереть мастикой полы, почистить кастрюли, сбегать в магазин за продуктами, отнести белье в прачечную или что-то погладить. Гладить я любила, мне нравилось, как под горячим утюгом преображалась мятая ткань.
Если надо было вымыть окна, тетя Ира говорила:
— Санюшка-голубушка, посмотри на окна! Будто грязной сеткой затянуло. Руки до всего не доходят. Может, ты поможешь? Давай так договоримся: ты моешь в комнате, я на кухне. Принимайся за дело, а я пока за тортиком сбегаю. За твоим любимым, с орешками. Справимся — и за чаек!..
Ходила она за тортом ровно столько, сколько требовалось мне времени, чтобы вымыть окно и в комнате и на кухне, да еще и кухонную дверь, застекленную до половины, прихватить.
— Ну и ловкая же ты, Санюшка-голубушка! — нахваливала тетя Ира. — Я повернуться не успела, а ты уже... Хорошая жена-хозяйка из тебя выйдет.
Вот так я и жила...
И росла.
А потом в моей жизни появился Ромка. И мне захотелось увидеть себя со стороны — можно меня полюбить или не за что?
Выяснила очень скоро: не за что. Длинная, угловатая, одета плохо. Почему раньше я не обращала на это никакого внимания? А как, оказывается, я хожу! Туфли стоптаны, и за километр слышно, что Саша Нилова идет, шаркает как древняя старуха. И как, должно быть, жалко я выглядела рядом с Лилей: она такая красивая, всегда нарядная, все на ней голубое, шелковое.
Лиля ходила в балетную школу, легко танцевала на пальчиках, ее номер был лучшим в концерте школьной самодеятельности.
В классе ее называли голубой принцессой. А она, когда сердилась, называла меня каланчой.
Зато когда Лиля у доски, отвечая урок, бормотала что-то невнятное — все забавлялись, не только я. Лицо ее приобретало глупое, кукольное выражение, бессмысленное какое-то. Но это было только у доски, а всегда Лиля была неподражаема. Не зря же Ромка влюбился в нее, был на побегушках.
Я не могла больше ходить в школу в чем придется. Попросила папу купить мне новое платье и туфли.
— Рано тебе еще хвостом вертеть! — заявила тетя Ира, а папа развел руками:
— Финансами я не командую, Саня, должна понимать.
Я стала стыдиться своего роста, начала сутулиться, подгибала ноги в коленях, чтобы не бросалась в глаза, часто просиживала перемены в классе.
И все же у меня было теперь солнце — Ромка, вокруг которого вращалась вселенная. Правда, самые яркие лучи это солнце направляло лишь в одну сторону, к Лиле.
Одно мне не нравилось в Ромке: его непостоянство в своих же решениях. Скажет: «Сегодня после уроков пойдем в лес, на воздухе побудем, листьев насобираем!»
Но стоило Лиле сказать: «Лучше в кино пойдем, зачем нам листья?» — как Ромка тут же забывал о лесе: «Конечно, в кино лучше!»
Перед хорошенькими девочками мальчишки чуть ли не наизнанку выворачиваются, заморыши первые места в спортивных состязаниях занимают, двоечники в отличники выбиваются. Какая другая сила заставила бы их из кожи вон лезть?
А мне хоть бы записку кто прислал. Записки, конечно, были, но совсем не те, каких хотелось:
«Нилова, дай контрольную перекатать!»
«Нилова, давай останемся после уроков — не понимаю я, как эти задачи решаются!»
«Саша, попросись срочно к доске, выруча-ай!»
В конце концов я сама решилась написать Ромке записку: «Одни слепы глазами, другие — сердцем...» Пускай задумается!
Он прочитал анонимное послание, повертел головой, стараясь определить, от кого оно (я исказила почерк), потом скатал записку в шарик и щелчком выстрелил мне в щеку.
Это была моя первая и последняя записка мальчишке.
А как я призывала в эти дни свою добрую фею! Большая уже была, а все продолжала придумывать всякое несбыточное: вот моя фея, перевоплотившись в директора школы, входит в наш класс.
«Саша Нилова здесь?» — спрашивает директор и направляется ко мне, пожимает руку.
Все удивлены: в чем дело?
Директор рассказывает, что я совершила какой-то подвиг, никто такого еще не совершал. Подвиг придумать я так и не могла: людей спасали при пожарах, вытаскивали из воды, все это уже было, часто в газетах писалось, мне надо было совершить необыкновенный подвиг. Например, изобрести летательный аппарат — сообщение между Землей и космическими кораблями, аппарат-курьер, небольшой, верткий, умный, надо отвезти космонавтам какие-то детали — пожалуйста, или письма, или секретное сообщение, в общем, я должна была изобрести такое, чего нельзя придумать.
«В центральной «Правде» об этом написано, — сообщает директор. — Спасибо тебе, Нилова, ты прославила нашу школу!»
Он подбрасывает газету, все тянутся к ней, стараясь поймать, но она никому в руки не дается, распрямляется во все свое поле, машет уголками и ковром-самолетом устремляется в открытое окно.
Все кричат, ликуют, а Ромка убивается: «Ну и дурак же я бестолковый! Где мои глаза были? На что мне сдалась эта голубая принцесса Лиля, если без Саши Ниловой мне не будет счастья? Я же люблю только ее! Но она теперь, конечно, не станет со мной разговаривать, такая знаменитость!»
Я торжествую: «Пострадай, пострадай немного».
Учительница, наш классный руководитель, руки ломает: «Ты уж извини меня, пожалуйста, Нилова, я была недостаточно внимательна к тебе. Как же это я проглядела твою работу? Надо было со мной посоветоваться или хотя бы довериться. Ты уж извини меня, Саша, что я плохой классный руководитель. Больше этого не повторится...»
Я добрею: «Важно то, что вы поняли все. Прощаю вас!»
— Нилова, к доске! — слышу я голос учительницы.
И еще хихиканье слышу.
И так мне хочется плакать, что я долго и больно тру глаза.
Училась я хорошо, но никак не могла отучиться опаздывать на уроки. То у меня вдруг развяжется шнурок на ботинке, то вывалится из старенького портфеля сверток с завтраком — запихивать его в портфель приходится уже в классе. А когда однажды я пришла вовремя, оказалось, что наши часы ушли на двадцать минут вперед. Лиля назвала меня растрепой.
Но я до сих пор помню удивившие меня тогда слова учительницы русского языка и литературы, сказанные Лиле: «Если тебе захочется осудить кого-то, вспомни, что не все люди обладают такими преимуществами, которыми обладаешь ты...»
Я посчитала себя вечным должником перед этой учительницей, я готова была служить ей, а если надо, и пожертвовать жизнью ради ее счастья. Решила стать учительницей. Как она... Я жила тогда как собачонка, которая ловит добрый человеческий взгляд и готова платить за этот взгляд вечной преданностью.
А как я была признательна Ромке за частые приглашения на молчаливые прогулки! Этими прогулками я только и жила.
Но все оборвалось мгновенно и горько. Случилось это в выпускной вечер. Я так ждала этого вечера! Тетя Ира сшила мне белое платье, купила красивые туфельки.
— Какая ты, Санюшка-голубушка, сегодня непривычная! — восхищалась она. — Глазенки так и сверкают, так и сверкают, ишь ты! А ножки-то, ножки, гляди, отец, какие у нее красивые ножки! Какая ты, однако, у нас...
Я таяла от этих слов, как масло на горячей сковородке.
Лиле для выпускного вечера сшили белое платье на голубом чехле с низким вырезом на груди. Мне все казалось, что, если Лиля опустит руки или вздохнет поглубже, платье сползет с нее. И все же я, не раздумывая, отпорола воротник у своего платья, сделала вырез пониже.
Тетя Ира рассвирепела:
— Мало, что платье испортила, так еще свои мосолыжины напоказ выставила! Мясом сначала надо обрасти.
Я не обиделась, меня даже неожиданный дождь не расстроил и даже заляпанные грязью новые туфельки — я их вытерла носовым платком, не бумагой же вытирать, поцарапать можно! А потом не знала, куда девать запачканный платок, так и носила в кулаке, пока не догадалась спрятать в свою парту: после выстираю, выбрасывать боялась, тетя Ира спросит, платочек новый.
Нам вручали аттестаты зрелости.
Когда я протянула руку за своим аттестатом, вдруг заплакала. Никто не плакал, а я... Директор положил руку на мое плечо, легонько пожал, но не сказал ни слова. Не знаю, что со мной делалось. Ведь я была так счастлива! Я плачу почему-то, когда смотрю по телевидению военные парады на Красной площади и когда слышу Гимн Советского Союза на каком-то торжестве. Отчего бы, спрашивается, тут плакать? Мне хорошо, в душе радуюсь, а слезы сами по себе...
Лиля упрекнула меня после:
— Чего ты разревелась? Стыдно за тебя. Все же ты чокнутая, Сашка, честное слово, чокнутая!
Ромка пригласил меня на вальс. Не Лилю, а меня. Вижу, склонился перед дамой, как положено, ждет, а мне не верится, на Лилю смотрю: не разыгрывают ли они меня?
Ромка смеется:
— Чего ты ждешь, Саша? А возможно, кого?
Это был мой первый танец с мальчиком. Сначала я сбивалась с такта, стеснялась положить Ромке руку на плечо, дотронуться до него, но, когда осмелела, перестала ощущать пол под ногами.
Потом он танцевал с Лилей, но недолго; нас ждал сюрприз: Ромкин дядя дал ему денег и посоветовал пригласить девочек в ресторан, отметить знаменательную дату.
Сколько радостей ждало меня в тот вечер! Весь путь от школы до ресторана я чувствовала на своих губах глупую счастливую улыбку, которую скрыть была не в состоянии.
— А потом мы будем гулять по ночным улицам до утра, да? — не один раз спрашивала я своих друзей. — Как все. Так ведь полагается, другого выпускного вечера не будет!
— Будем гулять, будем! — соглашался Ромка. — Раз так полагается...
Я еще никогда не была в ресторане, и надо представить, с каким трепетом вошла в вестибюль с зеркальными стенами, отражающими свет хрустальных люстр, с множеством декоративных растений в спрятанных листвой кадках, с важным блистательным швейцаром, как бы сошедшим со старинной картины, с вытянутой, вероятно, для приветствия рукой ладонью вверх. Но когда Ромка положил что-то на эту ладонь, пальцы сжались как лепестки какого-то редкостного цветка.
Звуки танцевальной музыки и разноголосого говора, достаточно громкого и в то же время интимного, как бы подхватили нас и понесли наверх по широкой лестнице с мраморными ступеньками, застланными широкой ковровой дорожкой красного цвета.
В зале с пустой серединой и густо столпившимися у стен сплошь занятыми столиками клубился табачный дым. Голубые струйки тянулись к полукруглому своду с плавающими там розовыми амурчиками.
Музыканты старались вовсю, словно им было строго-настрого приказано оглушить публику. Особенно выходил из себя ударник. Он сидел на возвышении, и казалось, что бил не только палочками по барабану, но и по воздуху — головой, плечами, разлетающимися волосами.
Ромке удалось разыскать места в углу за колонной. Там сидели двое: он и она.
На Ромкин вопрос: «Не помешаем?» — парень, не поднимая головы, сказал:
— Вы думаете, нам может что-то помешать?
— Тогда порядок! — обрадовался Ромка. Он притащил пятый стул. — Девушки, устраивайтесь!
Девушки... Еще вчера нас называли девочками. Взрослость пришла так мгновенно? Мы так и вошли в зал с аттестатами в руках: некуда было их спрятать, а доверить никому не могли. Лиля скатала трубочкой три аттестата вместе и вручила мне:
— Держи! Смотри не потеряй!
Я с этой драгоценной трубочкой так и не расставалась, домой ее принесла...
Не успели мы присесть к столу, как Ромка, улыбаясь сомкнутыми губами, пригласил Лилю танцевать. Я еще не успела привыкнуть к обстановке, не успела успокоиться — так волновалась. Пришлось сделать вид, будто изучаю меню — официант как раз положил передо мной карточку. Но я не отыскивала в этой карточке каких-то блюд — украдкой поглядывала за своими танцующими друзьями. Стройная, в нежно-голубом платье (на резком переходе от талии к бедрам лежала загорелая Ромкина рука), с распущенными светлыми волосами, с голубым бантом на макушке, Лиля порхала по залу как стрекоза. Ею любовались, в ее сторону поворачивались головы, а она загадочно улыбалась.
Какое это счастье быть красивой, думала я. Говорят, что в человеке главное — душа. Неправда! Кто любуется душой? Ею только пользуются в трудную минуту, она зарабатывает благодарность, а не любовь. Если влюбленный уродец бросит кому-то под ноги свое прекрасное сердце, его не поднимут, в лучшем случае обойдут, чтобы не наступить.
Я любовалась Лилей. Я любила ее. Пусть они с Ромкой будут счастливы. Они никогда не узнают о моей любви к Ромке. Мы всю жизнь будем дружить втроем. Хорошо, что у меня есть такие друзья. Я притягивала в свою голову эти мысли, как притягивают к столбику лошадь, которой хочется побегать еще на воле...
Вернулись Ромка и Лиля раскрасневшиеся. Лиля обмахивалась платочком, как веером. Ромка заказал цыплят табака и кофе с пирожными.
Ромка склонился над Лилей и начал скороговоркой читать:
— Печальный чибис часами чистит чубчик кучерявый.
— Зачем так часто?
— Чуть чихнул — запачкал.
— Нельзя ли чепчик чибису на чубчик? Чистый чепчик — очей очарованье...
— Идем танцевать! — приказала Лиля. — Хватит тебе чирикать.
Ромка вскочил. Он даже на спокойный Лилин голос откликался как на окрик, всем своим видом выражая готовность сделать все, что ему будет велено. Зачем он так, раздумывала я. Он, вероятно, не понимал, что унижается, и может так и не понять, если я захочу сказать ему об этом. Обидится. Как мне его жалко! Конечно, можно понять — любовь. И все же...
Мне так хотелось потанцевать с Ромкой. Хоть бы один разочек, как в школе.
Настроение мое все падало и падало. Соседи по столику не обращали внимания ни на кого. Хоть это утешало. Они чаще всего смотрели друг другу в глаза, потом молодой человек наклонялся и целовал девушке руку. А мне так одиноко! И стыдно к тому же. Только одна я была здесь какой-то неприкаянной. Разве Ромка не может и со мной танцевать? Раз пригласил... Кто знает, когда мы теперь встретимся и встретимся ли вообще. Он скоро уйдет в армию, возможно, захочет остаться на сверхсрочной службе, позовет Лилю к себе... Разве ему трудно уделить мне хоть чуточку внимания? На прощанье...
«Ромка, пригласи меня, пожалуйста, на танец. Хоть на один! — мысленно умоляла я. — Вспомни, я была тебе нужна для молчаливых прогулок. Хотелось мне, не хотелось, я шла, потому что это нужно было тебе. А теперь ты мне нужен. Неужели не можешь понять, что мне стыдно сидеть такой забытой?!»
Где ты, моя прекрасная фея? Взяла бы и пришла, незаметная, взмахнула волшебной палочкой и превратила бы меня в чудо-девицу, и поплыла бы я в круг лебедушкой. Лиля и Ромка пускай бы рты разинули. А ко мне подходят со всех сторон: «Разрешите пригласить вас на танец!» Но я вижу только Ромку, взглядом зову его: «Не бойся! Я не такая жестокая, как ты, подходи смелее, не бойся меня!»
— Ты чего сегодня такая? — слышу я Ромкин голос. — Раскисла совсем. Пойдем-ка!
Он потянул меня за руку, не спросил даже согласия.
Мы танцевали. Ромка то и дело поглядывал на сидящую за нашим столиком Лилю, боялся, вероятно, что ее пригласят другие. На меня он так и не взглянул ни разу.
Когда мы вернулись к столику, я напомнила:
— Мы хотели побродить по улицам. Наши все там... Весь класс. Все выпускники. И не только наши...
— Верно! Сейчас пойдем, — согласился Ромка. — Что нам здесь еще делать, посидели, потанцевали, и хватит.
— Никуда мы не пойдем! — возразила Лиля. — Здесь музыка, так весело, красиво, а там что? Серая ночная улица...
Ромка кивнул:
— И верно: серая ночная улица. Что мы, не видели ее? С какой стати болтаться ночью? Закажем еще мороженое и кофе.
— Ты только что говорил совсем другое, — возмутилась я.
Ромка покраснел, трусливо глянул на Лилю и поднял к лицу правую руку: признал себя виноватым. Я должна была ответить таким же жестом, это означало: «Извинение принимается».
Я не поднесла к лицу руку.
— Смотри ты на нее! — возмутилась Лиля. — Ее в ресторан пригласили, угощают, а она... Не обращай на нее внимания, Ромка, пошли танцевать, слышишь?
Я выбралась из-за стола, пошла к выходу.
— Саша, ты куда? — погнался за мной Ромкин голос. — Вернись!
— Идем танцевать! — настаивала Лиля.
Внизу, возле вежливого швейцара, я постояла минут тридцать.
А в нашем дворе у дота, пристанища моей скорби, я поплакала до́сыта и пошла домой.
За праздничным столом (здесь был и «Подарочный» торт, и призывно раскрытая коробка шоколадных конфет) меня ждали папа и тетя Ира. Они подарили мне наручные часы с гравировкой: «Саше в день окончания десятилетки» — и угощали как самую дорогую гостью.
— Ну а дальше, Саня, что думаешь делать? — поинтересовался отец после того, как тетя Ира несколько раз подтолкнула его локтем.
— Дальше? Буду поступать в педагогический...
— Правильно! — одобрила тетя Ира. — Никто тебя, Санюшка-голубушка, от учебы отговаривать не станет. Теперь все хотят учеными быть. И ты работай и учись, тебе ж так лучше: обременять никого не будешь, своя копейка всегда в кармане, в чужой рот заглядывать не надо. Тебе вот что надо сделать: иди к отцу на фабрику, а с учебой поразмыслишь, когда и где.
— Пойдешь, Саня, а? — заискивающе произнес отец. — Вместе будем... Но ты сама решай, ты уже не маленькая, школу кончила. Хочешь в институт — иди, пожалуйста, разве мы с Ираидой тебя не вытянем? Иди в дневной, если хочешь...
— Кто тебе сказал, что она хочет на дневной? — перебила тетя Ира, а ее красные выпуклые губы надулись еще больше. — Санюшка-голубушка, что он такое буровит? Скажи ему... Ты ж хочешь с отцом рядом работать, вместе, скажи! Пойдешь на фабрику?
Отец жалко съежился.
— Пойду, — сказала я.
Глава четвертая
БАБЬЕ ЦАРСТВО
Шум станков в ткацком цехе — как шум водопада: собственного голоса не слышишь. Поэтому ткачихи по привычке кричат не только в цехе. Не переговариваются, а перекрикиваются.
Сегодня они щеголяют в новой спецобуви — что-то матерчатое с открытым носком и пяткой, но с высокой шнуровкой. Ноге удобно и не жарко, вот что главное.
Обвожу взглядом цех — не зовет ли меня кто? Стоит мне появиться на пятом этаже, как тут же сыплются жалобы на прядильщиков. Или со станками что-нибудь неладно: «Позови-ка, Саша, мастера!»
Сегодня во мне пока что не нуждаются.
Все работают спокойно, сосредоточенно.
Я знаю здесь всех, давно знаю. Отец приводил меня сюда еще маленькую.
Большинство фабричных женщин одиноки, многие потеряли мужей и женихов на войне, у многих просто не сложилась личная жизнь, не повезло. Но дети есть почти у всех.
Многие до сих пор живут в общежитии, привыкли жить стайкой, боятся одиночества. Даже пенсионерки. Они чаще всего возвращаются в цехи.
Праздники отмечают вместе, к ним готовятся долго и тщательно. Вместе веселятся, вместе плачут, а то и разругаются до слез, до хрипоты. Но никогда не забудут поздравить подругу с днем рождения или какой-то знаменательной датой, преподнесут хороший подарок. Деньги для этого собираются по кругу, кто сколько может, дают их охотно, зная, что настанет и твой черед и для тебя будут собирать, шушукаться, выяснять за твоей спиной, в чем нуждаешься и что давно хотелось купить, да не было возможности. И тебя порадуют, и сами будут радоваться от души.
Я бы сказала, что наши фабричные женщины относятся друг к другу как сестры.
А какой в нашем цехе подобрался хор! Особенно тепло и задушевно исполняются русские народные песни. Больше всего мне нравится, как поют «Реченьку», слушала бы ее и слушала.
Обычно начинает одна, тихо и трепетно:
Реченька быстрая,
Камешки белые,
Чистая, чистая,
Смелая, смелая.
Потом подхватывает хор:
Ты не боишься
Дороги извилистой,
Смело бросаешь
Ты берег свой илистый.
И снова одна:
Рвешься все дальше
Сквозь землю родимую,
Ищешь дороженьку
Необходимую.
И снова хор:
То луговиной,
То прямо по полюшку
Рвешься ты к Черному
Теплому морюшку.
Не испугают
Тебя ожидания,
Веришь ты в счастье,
В большое свидание!
Первое время меня удивляли слезы на глазах у поющих, но потом, когда и я присоединилась к хору, и у меня влажнели глаза, появлялась какая-то необъяснимо сладкая грусть...
Ткачихи ходят между станками, внимательно просматривают полотно, следят, правильно ли заведены нити. Обрывов за смену много, и главная задача — быстро отыскать среди более двухсот тысяч нитей оборванную, связать и пустить станок. У нас никто быстрее Ольгуни не справляется с оборванной нитью. Хорошо отработанным приемом она так ловко свяжет ее, что даже опытный глаз не найдет на ткани место былого обрыва.
Ольгуня первая открыла и передала подругам свой опыт: если связанную осно́вную нить натянуть чуть потуже обычного, будет меньше затяжек, а отсюда реже останавливаться станок.
Я вижу склонившуюся над станком, как над детской кроваткой, Валерию Ивановку, нашего бессменного и, как шутя ее называют, заслуженного страхделегата. Она с готовностью ездит к больным на дом и в больницу, что-то покупает, передает, бегает в аптеку за лекарствами, возится с чужими кастрюлями у чужой плиты, но взамен требует и к себе внимания: надо было терпеливо выслушать ее рассказ о сыне, «таком добром, ласковом, умном мальчике!».
Сейчас сын служит в армии. Письма его знает вся фабрика. Валерия Ивановна читает их каждому. Ее понимают...
А вон у мотального станка перебирает нити, как арфистка струны, Груша — бывшая любовница моего отца. Мы с ней каждый день встречаемся на работе. Улыбаюсь ей, отвечаю на какие-то ее вопросы, обедаем вместе, а видится она мне разгульной и жестокой: не могу забыть котенка.
Увидела она меня первый раз в цехе, чуть ли не на шею бросилась:
— Глядите, кто к нам пришел! Уж как я тебе, Сашок, рада!
С каким удовольствием я оттолкнула бы ее!
Она все поняла:
— А я, Сашок, зла не помню... Ты мою жизнь разбила, а я в душе ничего против тебя не держу. Думаешь, я пила водку с твоим отцом, потому что выпить хотелось? Как бы не так! Да у меня после нее каждый раз нутро наизнанку выворачивало! Хотела приручить твоего батю, хотела, чтоб он на мне женился, семью заиметь, ребеночка... А ты все одним махом... Только и счастья, что дурой безграмотной не осталась, люди добрые не дали, хоть в шею, а все ж погнали за парту...
За парту ее «погнала», оказывается, Ольгуня. Намучилась она с Грушей, ведь за руку приходилось водить в школу. Приведет и ждет у входа, пока звонок не прозвенит, а Груши в школе уже и в помине нет: вылезла в окно и убежала.
На другой день — снова за руку.
Груша рассказывала, как она один раз диктовку писала. Красно синим карандашом, ничего другого у нее не было: «Одну букву красным карандашом выведу, другую — синим... Учительница до того обиделась, что даже кола не поставила...»
«Жизнь все равно посадит тебя за парту! — увещевала Ольгуня. — Учись, дура, пока года не вышли!»
— Осточертела мне эта Ольгуня, — беззлобно рассказывала Груша. — А ведь оказалась права. Пошла я в школу, сама пошла, да было мне тогда уже тридцать семь лет, дуре старой... Знала б ты, Сашок, как я первый раз в восьмой класс явилась! Ну смех! Детишки с тетрадочками да с блокнотами, а я не только все учебники приперла, а еще чертежную доску и тушь в придачу. Ольгуня настояла: «Бери, вдруг первый урок черчение?» Хочу сесть за парту, не помещаюсь: под мышкой держу набитый книгами портфель, не застегнулся, в одной руке доска чертежная, в другой зажат пузырек с тушью. Никто, конечно, не смеялся надо мной открыто, но у всех в глазах бесенята прыгали. А тут, гляжу, сидит на первой парте с плешинкой. Обрадовалась! Два «пенсионера» в классе — это уже легче...
Ольгуне надо во все вмешиваться, спокойно жить она не умеет: кого учиться пошлет, кого в общественную работу втянет, кого с мужем помирит.
Фрукт занимается стенной газетой, заметки собирает. И хотя бы просто просила написать, а то требует, сердится: «Мне что — больше всех надо?!»
Я вижу за работой Цымбалючку, полную женщину по прозвищу Дурносмех. Кто-нибудь поднимет указательный палец, скажет: «Ну-ка, Цымбалючка, выдай!» И она хохочет, заливается, причем искренне, до слез.
Цымбалючкой ее называют по фамилии мужа. Тридцать лет назад пришел на фабрику солдат с фронта, увидел стольких невест, глаза разбежались — одна лучше другой. Выбрал смешливую девчонку с хитрецой во взгляде. Они и поженились. Цымбалюк работает у нас грузчиком...
Я смотрю на неторопливо раскручивающийся навой — это такая гигантская катушка, на нее навиваются нити — и вспоминаю Ромкин рассказ о сборке воздухоочистителей для тракторов. Он рассказал так, что нетрудно было представить этот процесс зрительно. А можно ли рассказать, как рождается ткань? По всей вероятности, нет, уж очень много в ткацком деле специальных слов. Алюминиевые ламели, например, напоминают мне привязанных кузнечиков с острыми коленками, они как бы рвутся на свободу и этими резкими движениями разглаживают нити и попадают в ремизы. Они, эти ремизки, скачут вверх-вниз, вверх-вниз — получили задание сплести основную нить с уточной и добросовестно делают это. А бердо — это дворник, который размахивает метлой вперед-назад, вперед-назад, гонит возникшие сплетения к кромке уже готовой, только что народившейся ткани.
Смог бы Ромка этот мой рассказ представить зрительно?
Куда-то он запропастился? Не приходит, не звонит. Ничего, придет. Ждать я умею. Он же сам сказал: «Ты мне нужна, Саша, у меня роднее тебя никого нет...» Это правда.
Вдруг я почувствовала: что-то случилось. И тут же поняла: выключили станки.
Перерыв на обед.
Надо побывать в ткацком цехе, чтобы понять, что такое тишина. В ушах звенит. Слышно, как дышит человек, находящийся в метре от тебя.
В обеденный перерыв, как всегда, красный уголок штурмуют работницы: не все любят ходить в столовую, хотя у нас и неплохая столовая — и кормят прилично, и цены нормальные. А в красном уголке можно и поесть, и послушать последние новости. Ольгуня, политинформатор ткацкого цеха, каждый раз читает газеты или рассказывает о том, что слышала по радио или что смотрела в программе «Время». Войдет в уголок и спросит от порога:
«Как жизнь, бабоньки? Все в порядке? Тогда посмотрим, что на белом свете делается!»
Ее слушали охотно: свой человек, не поймешь чего, без всякого стеснения спросить можно. Благодарили: «Спасибо тебе, Ольгуня, что греха таить: дома в газету заглянуть некогда, да и к телевизору не всякий раз подсядешь».
Женщины шумно усаживались за длинным узким столом с разбросанными по нему газетами и журналами, шуршали свертками. На специальной подставке появился чайник с заткнутым газетной пробкой носком, стаканы. Запахло начесноченной колбасой.
Я тоже достала из сумки кусочек буженины, булку, еще дома разрезанную и намазанную маслом, кулек с рафинадом и эмалированную кружку — в ней долго не остывает чай — и принялась за еду.
Не устаю удивляться: женщины уже успели нацепить серьги, брошки, часы, кольца — все это сверкает, как изделия ювелирторга на выставке.
И о чем только женщины не говорят в обеденный перерыв!
Сколько лет работают вместе и никак не наговорятся. Вот и сейчас я слышу голос одной из ткачих:
— Познакомилась я с этим... охламоном в отпуске. Какой с меня спрос? Холостячка! Интересный такой мужчина, видный, в душ при галстуке ходил. Ну, думаю, повезло мне, в театр позовет, в киношку, может, и потанцуем где в ресторане под «Брызги шампанского», разомну косточки. А он... хоть бы сто грамм мятных подушечек когда преподнес! Попросила его как-то газету мне купить, даю пять копеек, а он в кармане роется, три копейки сдачи ищет. Чтоб ты лопнул, думаю, паразит жаднющий!
— С моим Митькой жить можно, — раздалось с другого конца стола. — Он и детей из садика заберет, и в магазин сбегает, в прачечную белье отнести не побрезгует, а вот самостоятельности в мыслях никакой. Спросишь: «Митька, как лучше сделать то-то или то-то, давай вместе обмозгуем!» А он: «Как хозяйка скажет, так и будет!» — «Так ведь я у тебя, у мужа законного, совета спрашиваю!» Опять тянет рот от уха до уха, зубы выставляет: «Как хозяйка скажет, так и будет!» А чтоб тебе пусто было, соглашатель несчастный! Верите, бабы, не верите, а другой раз схватила бы, что под руку попалось, и с таким смаком тюкнула бы своего Митьку по темечку!..
— Это что! — вступает в разговор третья. — А мой- то, зарадость, какую моду взял: посуду бить. Выпьет на копейку, а шкоды на десятку наделает. Всю посуду разнес, зарадость душистая! Он куражится, а я деньги на бочку. Думала я, бабы, думала и надумала. Является он вчера с залитыми глазами: получку получил, хвать со стола тарелку — и об пол. Я беру другую, специально похуже выбрала, приготовила, чтоб не так жалко было, и тоже — трах! Он ахнул стакан, я — другой. Он хватает хрустальную вазу со стола, у меня аж сердце зашлось, по виду не показываю, рву со стены часы, такие, знаете, со звоном, старинные. Вижу, зарадость моя шары выкатывает: «Ты что, сдурела?» А я держу часы над головой обеими руками, как кирпич, и жду, когда ваза полетит на пол: не отступлюсь, пропадай, думаю, моя телега, все четыре колеса. Испугался, кинулся меня успокаивать. Ну, тут уж я разбушевалась. Как Фантомас...
— А мой что на старости лет надумал! — засмеялась мотальщица, Грушина сменщица. — Чего ты, говорит, как затюканный апостол ходишь? Я тебя, говорит, без фартука не вижу. Ты сколько лет не была в парикмахерской? Утром чуть свет встал, пошел занимать очередь на химическую завивку, дал на сбор пятнадцать минут. И еще приказал: «Седину закрась! Нечего хвастаться годами...» Оказывается, у его начальника жена старше меня лет на десять, а выглядит на десять моложе. «Ты не хуже ее, ей-богу, — говорит мой, — опустилась. Да только считай, что этого больше не будет. Приведу тебя в наилучший вид...» Сказал, что гардероб мой будем обновлять. Два внука растут, а он омолаживать старуху вздумал.
— Какая ж ты старуха? Сорок семь лет...
— А мою дочку в аспирантуре оставили... Я дальше мотальщицы не пошла, а вот дочка... Ученой будет.
— Моя провалила экзамен, двух баллов недобрала. На тот год с новым заходом. Химиком хочет быть. Пускай!.. Лишь бы человеком стала...
— Как жизнь, бабоньки? — сказала, входя в красный уголок, Ольгуня. Под мышкой у нее газеты. — Все в порядке? Тогда посмотрим, что на белом свете делается.
На белом свете делались страшные дела. Женщины слушали Ольгуню, возмущались, горевали. Какая-то хунта, подлые генералы, расстреливают людей ни за что. Сколько жизней загублено! Люди боролись за свободу, за счастье, чтоб ни войн, ни насилий, а их под расстрел, под пытки. Страдают и дети, и старики. И воюет-то верхушка, сами в золотых бассейнах купаются, и все им мало. Рабочий люд страдает... А за что?!
Все эти слова вырывались у работниц как стон из груди.
Разошлись молча, без обычных шуток и подначек. Я подвинула ближе к себе счеты, раскрыла блокнот: надо подсчитать показатели приборов, но ничего не шло в голову. Почему страдающих от войн, насилия, голода людей защищают только газетными статьями? Людей, желающих мира, гораздо больше, чем зарвавшихся вояк, все же знают, каким мукам подвергаются патриоты в тех странах, где произошел фашистский переворот. Почему же всем миром не остановить убийц? Остановить силой, а не дожидаться, пока у них заговорит совесть, пока общественное мнение испугает их.
А вдруг не испугает?
А кто вернет жизнь хорошим людям?..
Моя дверь резко распахнулась, и влетела Груша. Следом за ней вошел начальник нашего цеха. Из выкриков Груши я поняла, что она просит отпуск, а ей не дают.
— Да что я, по-вашему, отдыха не заслужила? — почти кричала женщина. — Ну-ка вспомните, я опаздывала когда на работу? Или прогуливала? Или норму не выполняла? А кто «стенновку» формирует? Заметки из души у каждого тянуть приходится. Читать все любят, а писать — пусть дядя пишет? А кто за «молнии» отвечает? Один художник все нервы тебе вымотает, надо срочно, а он тянет, я ему когда-нибудь морду набью, помянете мое слово! А вы отпуск не даете!
— План-то выполнять надо, — устало отбивался начальник цеха: видно, разговор этот тянется не день и не два. Начальник цеха у нас молодой и настолько деликатный, что женщины отзываются о нем с сожалением: «Что это за мужчина, который кричать не умеет? Ему бы с бумагами заниматься, а не с нами, горластыми!»
— Выходит, это я на фабрике погоду делаю? — наступала Груша.
— Вы же знаете, цеху положено двадцать две мотальщицы, а вас всего восемь. Некому работать.
— Хорошо, хорошо. Тогда мы с другой стороны. Сашок, дай-ка мне пару листков бумаги, сейчас я два заявления накатаю: одно на отпуск, другое на увольнение по собственному желанию. Или — или.
Начальник цеха, покачав головой, вышел.
— Я у вас и дня не останусь! — крикнула ему вслед Груша. — Сейчас рабочие везде требуются. На каждом углу объявления висят, приглашают, пожалуйста! Не я буду гоняться за вами, а вы за мной!
Когда Груша ушла, я подумала: как бы ей позавидовала любая женщина оттуда, с другой стороны, где войны и насилие. Ее беда показалась бы им детской забавой...
Груша вернулась примерно минут через сорок и молча положила передо мной записку: «Где обещанная заметка?»
Если Груша, член редколлегии стенной газеты, перешла на записки, значит, ее терпению настал конец. Сначала она просит написать, потом убеждает в необходимости заметок, потом обижается и переговоры ведет только посредством записок. Показывать молча записку она будет до тех пор, пока не добьется своего. И где бы ты ни был — за своим ли рабочим станком, или за столом, или у приборов, она подсовывала развернутую записку: «Где обещанная заметка?»
— Не успела, — извинилась я.
— Все вы не успеваете! Можно подумать, что никого, кроме меня, не интересует жизнь нашего коллектива. Ты же за качеством следишь, так-таки тебе нечего сказать?
На этот раз мне, видно, не отвертеться.
— Ты дай мне тему! — требовала Груша: ей, видно, хотелось с кем-то поговорить «на басах», такая потребность появлялась у нее довольно часто. — Подай мысль! Ну, шевели мозгами, Сашок, шевели!
Господи, как она со мной разговаривает!
— А если вот о чем, — неуверенно начала я. — Начальники цехов один на другого сваливают вину за брак, постоянно ищут виноватого...
— Иван кивает на Петра, а Петр кивает на Ивана? Так, что ли? — подхватила Груша.
— Что-то в этом роде.
— Сделаем вот так. — Груша деловито сложила записку (она ей еще пригодится), сунула в карман фартука. — Художник нарисует нам ткань, с такими, знаешь... Можно дырки, редины или полосы другого цвета. Вокруг этого куска надо как-то позаковыристей расставить начальников цехов: ткацкого, аппаратно-прядильного и аппаратно-красильного. Пусть каждый тычет пальцем друг в друга. Сверху напишем: «Иван кивает на Петра...», а внизу: «Вот так мы боремся с браком». Пойдет, Сашок?
— Пойдет.
— Вот видишь! А сколько времени ты из меня воду варила? Запиши все это и мне отдашь. Подведешь — сама знаешь как это. А то возьму про тебя напишу и еще карикатуру подстрою.
— Не подведу. Как у вас с отпуском?
— Как, как! Никак... Работаешь, работаешь как проклятый, а что взамен?
— Но отпустили же?
— Держи карман шире! Ничего, я в августе все равно удеру. Возьму больничный, а там посмотрим. Я свое не упущу... Слушай, Сашок, а давай-ка мы с тобой попируем сегодня? В кафе заглянем, кофейку с пирожными попьем, я трояк по лотерейному билету выиграла.
Я подумала и согласилась: спешить мне сегодня некуда и не к кому...
Глава пятая
КТО ЖЕ ИЗ НАС ТРЕТИЙ?
Папа наконец решился «законно оформить свою семейную жизнь с Ираидой и переехать к ней на постоянное местожительство».
Сейчас дома у тети Иры пыль столбом. Затеяла капитальный ремонт. Невеста... А пока что она перебралась жить к нам. Живет с неделю, а распоряжается как у себя дома. Сколько наших вещей уже перекочевало в ее чемоданы! Берет и разрешения не спрашивает. Забрала кофейный сервиз (мама еще покупала), фарфоровый чайник, клетчатый шерстяной плед, прикроватный коврик.
— Тебе, Санюшка-голубушка, все равно новым обзаводиться надо будет. Выйдешь замуж, зачем тебе старье?
И еще она потребовала:
— Будем отдельно питаться. Мы с отцом, а ты сама по себе, тебе ж выгодней — у нас два рта. Но только отцу ничего не говори, слышишь? Нечего посвящать его в бабьи дела, сами разберемся.
Теперь в нашем холодильнике всегда стояло две бутылки молока, две кастрюльки с супом, два пакета масла. Это твое, это наше...
Тетя Ира никогда не перепутает, где чьи продукты, память у нее отличная. Зато на деньги появилась вдруг удивительная забывчивость.
«Санюшка-голубушка, подкинь мне, пожалуйста, пятерочку до папиной зарплаты».
Или:
«Ты в магазин? Захвати мне пачку маслица, сырку голландского граммов двести. Заодно картошки пакет. Деньги я потом...»
«Потом» не бывает.
И так почти каждый день.
Отцу до нас нет никакого дела, внешне все спокойно — и ладно. Он и не подозревает, как мне плохо и одиноко в родном доме.
Но скоро мое одиночество кончится.
Мы с Ромкой поженимся. Я знаю, что он никогда не будет меня любить так, как Лилю. Знаю, что он вынужден на мне жениться. Вынужден! А я, зная это, принимаю такую жертву. Мне жалко Ромку. Но мне жалко и себя. Вчерашнее Ромкино поведение на многое открыло мне глаза.
Мы были в театре. Нас пригласили Олег Семенович и Лиля. Смотрели спектакль о генерале Карбышеве — «Без вести пропавшие». До сих пор не могу успокоиться, никогда еще я так не волновалась в театре. Стоит перед моими глазами камера из серого камня, серый каменный мешок. В нем одетые во все серое люди, как один, на одно лицо, потерявшие всякую надежду. И что бы они тут ни делали — сопротивлялись бы, выискивали лазейки для спасения, на воле никто об этом не узнает: выхода из каменного мешка нет. Но пришел Карбышев, советский генерал, и принес с собой веру: «Пока ты жив — ты человек!»
Убить человека за стойкость, за честность, за преданность Родине! Сначала заставить вымыться под душем, затем — на мороз, под водяную струю из брандспойта!
А как бы я повела себя, оказавшись в таких условиях? Хватило бы у меня силы не только выстоять, но и другим помогать держаться? Не знаю... Но твердо знаю одно: предателем я бы никогда не стала и предателя не простила бы.
Олег Семенович предложил подвезти нас на своей машине. Я отказалась. Не помогли даже Ромкины уговоры. Хотелось мне пройтись пешком, трудно сразу переключиться из одной жизни в другую. Ромка согласился со мной, и мы пошли.
Ромка старался как-то отвлечь меня, успокоить, держал свою руку на моей талии, ласково прижимал к себе. Никогда он не был так ласков со мной, даже по своей привычке не забегал вперед. И как же я могла не рассказать ему, что у нас будет ребенок?
Ромка оторопел.
— Ты с ума сошла! Зачем нам это?
— Во-первых, это не просто это, а ребенок, будущий человек, — возразила я. — А во-вторых... Мы ведь поженимся?
— Да, но... Я не откажусь, не думай.
— А ты не думаешь, что я могу отказаться?
— Ты? — Ромка захохотал, забыл даже рот закрыть, изменил своей привычке.
— Не веришь? — Я обиделась, хотя сама в это не верила.
— Брось! — только и сказал Ромка. Он вдруг вспомнил, что у него остались незаконченными какие-то срочные дела, надо куда-то немедленно позвонить. «Но по телефону всего не скажешь, лучше я сам туда заскочу. Так вернее... Один товарищ из бригады... Просил...»
Он даже соврать толком не умел.
Я посмотрела на свои часики — стрелки уже подбирались к двадцати четырем.
— Надо — иди, — сказала я тихо. — Иди. Я домой...
Домой. Разве можно назвать домом мой дом?
Ромка убегал от меня, размахивая правой рукой, левая почему-то плотно прижата к боку и засунута в карман, неподвижна, как протез. Почему мне на ум пришло такое сравнение?
Когда Ромка скрылся за поворотом, двинулась с места и я. Подняла голову и зашагала твердо, прямо. Никто бы, увидев меня издали, не догадался, что я плачу, что с трудом вижу тротуар, по которому иду.
И вдруг кто-то, толкнув, остановился передо мной, загораживая путь. Это был Ромка. Склонив голову, он поднес к лицу правую руку — вспомнил нашу детскую игру.
Я тотчас поднесла и свою: «Забудем старое» — простила. Но мне вдруг стало так плохо, что, если бы Ромка не поддержал, я упала бы, голова закружилась, все поплыло перед глазами.
— Какой же я подлец! — воскликнул Ромка, бережно поддерживая меня, увлекая вперед. — Прости меня, Саша, никогда такое не повторится, клянусь! А хочешь, давай расскажем Лиле и Олегу Семеновичу, что мы хотим пожениться, купим торт и пойдем к ним, организуем помолвку? Хочешь?..
И вот сегодня звонок на работу: «Саша, поезжай после смены прямо к Лиле, там встретимся».
Я заволновалась, даже про обед забыла, вспомнила, лишь когда заныло под ложечкой, стало подташнивать. Не одна я хотела, видно, есть...
Надо еще в парикмахерскую сбегать! Обязательно. И платье надеть самое лучшее. Я должна сегодня всем понравиться, ведь это же моя помолвка! Ромка хороший, хороший, просто разбросанный немного и слабохарактерный. Это пройдет.
Я должна ему сегодня «показаться», все меры приму, чтобы выглядеть хорошо. Попрошу у тети Иры серьги — золотые висюльки, красивые! Почему я до сих пор не купила себе сережек?
В автобусе со мной рядом оказалась вдруг тетя Ира, увидела меня и протиснулась. Вот досада! Она ездила на рынок за картошкой: приспичило, некого было послать. Отдала мне тяжелую сетку, килограммов семь-восемь, не меньше.
— Хорошо, что ты мне попалась, Санюшка-голубушка!
Действительно, попалась...
Свободных мест не было, и тетя Ира держалась за меня, как девочка за мать. С одной стороны мою руку оттягивала картошка, с другой — тетя Ира. Я чувствовала теплоту ее руки, слышала знакомый с детства запах духов «Красная Москва» (других она не признавала, и я всегда угадывала, когда она была у нас без меня), я старалась уберечь ее от толчков: нас трясло и швыряло то на сидящих, то на стоящих, мне хотелось попросить кого-то уступить ей место, но рассказать ей о себе мне не хотелось.
— А ведь я забыла мясца купить! — вспомнила тетя Ира, поднимая ко мне лицо. — Что ты будешь делать! Склероз... Выйди, пожалуйста, Санюшка-голубушка, на следующей остановке, в мясной, килограммчика полтора для котлет. И луку полкило. Сейчас я тебе денег...
«Пропала моя парикмахерская!»
Тетя Ира достала из сумки какой-то плоский сверток, сунула его под подбородок, прижала к груди и стала шарить в сумке. Занималась она этим до тех пор, пока машина не остановилась.
Я отдала ей сетку с картошкой и вышла из автобуса.
За мясом пришлось постоять: в такое время многие после работы спешат в магазины — кому надо обед на завтра готовить, кому в театр, а кто проведет вечер у телевизора, — надо успеть, времени у работающего человека всегда в обрез, а его надо обязательно выкроить и для отдыха.
Шла домой и думала о тете Ире: стыдно ей или не стыдно всегда эксплуатировать меня, проделывать штучки с деньгами? А что, если ее радует возможность кого-то обмануть, провести? Что ей это дает? Удовлетворение? Но почему я никогда не говорила ей об этом, никогда не протестовала? Автоматически делаю то, что она велит. Но ведь можно было и не делать! Не могу... И не могу себе объяснить, почему не могу. Это покладистость или безвольность? Я обвиняю Ромку в безвольности, а сама?
У наших ворот я приостановилась, ногой толкнула скрипнувшую калитку, наступила на железный прут, и он покачнулся подо мной, точно присел. Арку я прошла быстро, мне все казалось, будто шестигранный фонарь, висевший над сводом, непременно упадет мне на голову.
От дота, раскинув руки, улыбаясь закрытым ртом, навстречу мне двинулся Ромка:
— Привет, Саша Нилова!
От радости я слова не могла произнести.
— Я подумал: зачем нам приезжать туда врозь, верно?
— Ну конечно же! — ликовала я.
— Не копайся долго, ладно? Я тут в скверике покурю...
Еще на лестнице я услышала запах жареного мяса. Я должна проглотить хоть кусочек чего-нибудь, иначе... Просто плохо будет.
Папа и тетя Ира обедали на кухне.
Я положила авоську с мясом на подоконник, а лук — в ящик возле двери, постояла немного, не решалась сесть без приглашения — не я же готовила эту еду.
— Мне надо идти, — сказала я, чувствуя себя посторонней.
— Поешь сначала, — предложил отец. Губы у него блестели от масла. — Садись, Саня!
— Если человек торопится, до еды ли ему? — сказала тетя Ира.
— Спасибо, папа, я недавно пообедала...
Неужели вот так всю жизнь буду чувствовать себя незваной гостьей на земле?
Но меня ждет Ромка! Предстоит важное в моей жизни событие. Как отнесется к этому Лиля? Олег Семенович обрадуется, это я знаю. А Лиля? Поставим ее перед фактом и... Ничего она не сделает.
На душ ушло минут десять, не больше, зато на переодевание... Выбрала плотное шелковое платье в черных и зеленых полосах. Портниха предложила раскроить его так, чтобы широкие полосы на груди и спине сходились елочкой. Воротник и манжеты мы сделали из черного бархата. Платье получилось — блеск! А как сидит на мне! Первый раз в жизни я сама себе нравилась.
Теперь стараюсь хорошо одеваться, даже за своей осанкой следить стала. И все Ромка. Только из-за него. Ольгуня же все принимает на свой счет, не нарадуется:
«Проняла я все-таки тебя, Саша?»
Соглашаюсь.
В парикмахерскую не удалось сходить! Волосы я начесывала терпеливо, до боли оттягивала каждую прядку, шоркала по ней железной расческой, потом легонько, поверху, прошлась капроновой щеткой, подняла ладонями к затылку и закрепила невидимками.
Чуть ли не касаясь носом зеркала, попудрилась, накрасила губы (отважилась!) и вышла во двор, как невеста на смотрины.
Ромка критически оглядел меня:
— Ничего... Впечатление произвести можешь.
По пути мы зашли в гастроном. Ромка купил круглый торт.
Дверь нам открыл Олег Семенович. Увидев меня, он торопливо запахнул на груди расстегнутую пижамную куртку.
— Извините, Сашенька... Молодцы, что приехали. А я что-то прихандрил сегодня. Лиля!.. Ну, Сашенька, ну, милая, сегодня вы потрясающе красивы!
Лиля вышла к нам в халате из голубого атласа с широкими белыми манжетами, с гофрированным белым воротником-стойкой, как герцогиня. Представляю, как я померкла сразу же в Ромкиных глазах. Ромка смотрел на Лилю как на видение. Я перестала чувствовать себя уверенной и счастливой. Что ждет меня? Ревность или чувство неполноценности, причем постоянное? Но почему я должна чувствовать себя неполноценной? Разве цена и достоинство человека определяются его внешностью?
— Сашенька, вам так идет это платье! — Олег Семенович поцеловал мне руку. — Вы просто очаровательны...
Пожалел он меня или сказал искренне? Но как бы то ни было, он поддержал меня, вывел из чего-то похожего на шок.
— Заходите! — пригласила Лиля.
Ромка принялся снимать туфли. Перед его лицом хлопнули об пол мокасины — домашние туфли Олега Семеновича. Лиля бросила их, не сгибаясь. Ромка даже чуть вздрогнул от неожиданности.
В гостиной пахло духами. Сколько же флаконов потребовалось вылить, чтобы добиться такого аромата, ведь не одна вещь пахнет, а вся комната. Любимый Лилин запах, тонкий и неопределенный. Вижу, и Ромка принюхивается, как кошка к валерианке.
Лиля поставила торт на журнальный столик, принесла вазу с яблоками.
Лиля похвасталась новой покупкой — цветочной подставкой из железных прутьев, похожих на растопыренные пальцы. На каждом таком пальце сидела яркая пластмассовая чашечка с цветком.
— А вот еще одно приобретение. Это Олег...
Над телевизором висела репродукция с картины голландского художника Ван Гога «Вечерняя прогулка».
Ромка долго рассматривал ее.
— Полнейший произвол, — сказал он, повернувшись к Олегу Семеновичу, призывая его в единомышленники. — Разве это деревья? Кочаны капусты на длинных палках... А у женщины пятно вместо лица. И у парня. А что это за рука?.. Шагают...
— В том-то и дело, что они шагают, — опередила я хотевшего что-то сказать Олега Семеновича. Будьте благословенны книги и дорога на работу в трамвае! — Художника интересует интимный характер того, что он передает, изображает. Не сама рука, а ее движение, не голова сама по себе, а ее выражение, глубокий вздох, например...
— Саша права, — поддержал Олег Семенович. — А посмотрите, как художник здорово использует возможности цвета и формы! Он...
— Хватит вам! — поморщилась Лиля. — Все должно быть законченным и ясным. А здесь ералаш, женщина такая неуклюжая. Кому нужно такое движение, если ничего в нем красивого нет? Красота нужна, вот что... Роман, принеси, пожалуйста, чай с кухни. А ты, Олежек, нарежь лимон.
Она протянула лимон мужу. Он задержал ее руку в своей, но она с легкой гримасой отняла ее и вышла следом за Ромкой.
Что-то и меня подняло. Наверное, интуицию пора возвести в степень точных наук.
Сквозь стеклянную кухонную дверь я увидела, как Ромка обнимал Лилю.
Они целовались.
В мире что-то рухнуло.
Я оказалась в пустоте. Не было ни прошлого, ни будущего. Реально существовали лишь двое за стеклянной дверью.
Мне надо было возвращаться к Олегу Семеновичу, и я вернулась.
Не успела я присесть к столику, как вошла Лиля, тронула мужа за плечо, спросила:
— Ты о чем задумался?
Олег Семенович встал, погасил электричество, зажег свечи. И сразу комната с темными обоями, с кашпо, свисающими по стенам декоративными цветами, с огромным, во весь пол, темно-красным ковром приобрела таинственность.
— Я вот о чем думал, — сказал минуту спустя Олег Семенович. — У нашей дворничихи, Татьяны Владимировны, Саша, вы должны ее знать, дочь защитила диссертацию. Вчера.
— Ну и что? — спросила Лиля.
— Как что? Дочь дворника — кандидат медицинских наук.
— Теперь это в порядке вещей, — усмехнулась Лиля. — Все в интеллигенцию лезут.
— Не понимаю, как можно «лезть в интеллигенцию»! — Олег Семенович сморщил нос. — Не то ты говоришь, Лиля, не то.
— А вот сейчас я скажу то!
Лиля уютно расположилась в голубом кресле, выставив обнаженные круглые коленки, и, бросив на Ромку взгляд, засмеялась.
— Я вспомнила буддийскую веру... Выход для неудачников. Желаний у человека великое множество, удовлетворить их не всегда удается. Но раз не можешь удовлетворить своих желаний, откажись от них. Просто и естественно.
— А как быть с мечтой? — спросил Олег Семенович, — Отказаться от мечты...
— Так ведь я говорю о неудачниках! Это для них отказы всякие...
— А кто знает, какого цвета ветер? — спросила я вызывающе.
Лиля засмеялась:
— Что за чушь?
Ромка пожал плечами:
— Глупости...
А Олег Семенович сказал:
— У ветра разный цвет, Сашенька. Летом он, как газовый шарфик, сиреневый. Осенью — серый с золотом, а зимой — черный в белую крапинку.
— Ты это серьезно, Олег? — удивилась Лиля.
— Самым серьезным образом, дорогая.
Лиля поднялась, не постеснялась потянуться. Но какая она, однако, легкая, грациозная.
— Пойду сварю вам кофе.
— И я с тобой! — Ромка вскочил. — Помогу...
Олег Семенович безмятежно улыбался. А мне хотелось схватить Ромку за полу пиджака или дернуть за руку, больно, сильно, чтобы он тут же свалился на свое место.
Олег Семенович ласково посмотрел на меня, и я вынуждена была ответить ему улыбкой. Я, кажется, первый раз внимательно всмотрелась в лицо Лилиного мужа: какой у него усталый вид, под глазами припухлости. А небольшая лысина ему даже идет, во всяком случае, сегодня она не казалась мне оскорбительно старческой.
Как ему живется с Лилей? Знает ли он, что они с Ромкой были влюблены друг в друга?.. Нелегко ему, видно. Но, возможно, именно в этой нелегкости он нашел для себя нечто?
А можно ли назвать подлостью желание рассказать хорошему человеку, что его обманывают?
За кофе Лиля объявила:
— Внимание, внимание! Сейчас последует важное сообщение.
У Ромки на лбу появилась глубокая морщина, перечеркнутая вертикальной стрелкой. Он растерянно глянул на Лилю, причесался пятерней и перевел взгляд на меня: такой взгляд, помнится, я видела еще в школе, когда он «плавал» у доски.
— Говори же! — требовала Лиля.
Ромка никак не мог отважиться на что-то. Мне стало не по себе: что Лиля затевает?
— Зачем делать из этого тайну? — засмеялась моя подруга. — Олег, они хотят пожениться... Постфактум, так сказать... Немного поторопились, но...
— Очень рад! Сердечно рад, поздравляю! То-то вы оба сегодня какие-то... торжественные.
Зачем Лиля намекнула о ребенке при Олеге Семеновиче? Зачем?
Мне надо бы сейчас сказать с достоинством: «Нет, Роман, я не пойду за тебя. Причина? Пожалуйста: не люблю. Останемся друзьями...» Представилось Лилино лицо в этот момент.
— Горько! — крикнула Лиля.
Ромка потянулся ко мне вытянутыми губами. У меня не хватило сил отстраниться. Мне хотелось кричать или разбить что-нибудь: я видела, каким взглядом переглянулись Ромка и Лиля, но я только сказала:
— Не порывай нить дружбы, ибо если придется опять ее связать, то останется узел!
Потом я встала — пусть Ромка попробует ослушаться: он же теперь официально объявлен моим женихом.
— Нам пора.
Ромка и Лиля растерянно переглянулись: этого они от меня не ожидали.
Мы распрощались, пообещали заехать в следующую субботу и вышли на улицу.
Ромка дулся на меня. Я старалась идти с ним рядом, но он все время вырывался вперед. Мне хотелось грубо окликнуть его или просто свернуть, а то и уехать домой, но вместо этого я искала ему оправдания: привык бежать впереди, издавна призык.
Я шла за своим кумиром, словно привязанная к нему невидимой веревкой.
А если б я повернула назад, заметил бы он?
Нет у меня чувства собственного достоинства и в помине. Нет... Ромку осуждаю, а сама...
Стал накрапывать дождь, но Ромка все шел, не обращая на него никакого внимания, только один раз на перекрестке, не оглядываясь, отвел назад руку, подождал, пока я подам ему свою, и перевел через улицу.
— Дождя испугалась? — спросил он, не глядя на меня. — А ты представь, что сегодня солнечный вечер.
Это было давно, еще в детстве, та же прогулка под дождем, те же слова.
Ромка резко остановился, и я чуть не налетела на него.
— Подожди меня здесь, я позвоню.
Кому и куда? У меня снова появилась возможность уйти, но я не воспользовалась ею. Но что я сделаю непременно — ни за что не пойду больше к Ромке, пусть хоть на коленях умоляет.
Ромка вернулся. Он даже не спросил, хочу ли я зайти к нему, был уверен, что не услышит от меня «нет». До самой двери его квартиры я готовилась к отказу, выбирала слова поточнее и повесомей. Теперь-то я поняла, что Лиле и Ромке надо было усыпить бдительность Олега Семеновича, и они это умно сделали. Зачем же я тогда здесь, зачем?..
Стыдясь и презирая себя, я не двинулась с места, стояла, пока он не подошел ко мне.
Ромка легонько посапывал во сне, повернувшись к стенке, а я не могла сомкнуть глаз до утра. Когда Ромка проснется, я скажу ему все. Пусть они с Лилей подличают без моего сообщничества. Надо быть медузой, размазней или бездомной собачонкой, которую ни за что бьют, потом ласкают и снова бьют, чтобы вытерпеть такое.
Но когда Ромка выпустил меня утром из своей квартиры, выглянув предварительно на лестничную площадку, я спросила:
— Мы вечером увидимся?
— Не знаю. — Ромка зевнул. — До вечера надо еще дожить.
И закрыл дверь.
У меня было такое чувство, будто я спускаюсь по лестнице не к выходу во двор, а в какую-то страшную бездонную яму.
Глава шестая
ПОНЕДЕЛЬНИК
Лиля не показывалась на фабрике десять дней: подхватила грипп.
Сегодня она явилась на работу в новой голубой шляпке, низко надвинутой на лоб. Сзади, собранные пучком, золотились длинные локоны. Она напоминала даму девятнадцатого века, изящную аристократку.
Я выбираю из каждого ящика по пять початков, проверяю на приборах крепость нити, номер, вес, крутку, а сама то и дело поглядываю на двери кабинета начальника цеха, куда вошла Лиля, — там она раздевается и завтракает, если ей не хочется спускаться в столовую.
— Привет, Сашок!
Ко мне подошла Груша с «молнией», исписанной черными буквами. Черные «молнии» сообщали о нарушениях трудовой дисциплины, о нерадивом отношении к труду, красные — об успехах.
— Взгляни-ка! — потребовала Груша и подняла лист величиной с развернутую газету к моему лицу, спрятавшись за ним как за щитом. — Так и надо им, а?
«Молния» взывала:
«Тревога!
Равнодушное отношение к работе прядильщицы Жизняковой и весовщицы Пивоваркиной привело к тому, что из-за спущенного нижнего конуса 44,2 килограмма «березки» переведено в несортную пряжу.
Позор бракоделам!»
— Пускай все знают, — сказала Груша, глазами выбирая место, откуда будет видна со всех сторон «молния». — Нечего такие вещи утаивать, иначе не проймешь... Верно, Сашок?
Я не видела еще человека, который с таким рвением занимался бы общественной работой, как это делала Груша. Я же до сих пор увиливала от всего. Да у меня и не получилось бы, если б и захотела.
Груша повесила «молнию» и ушла. Я уронила початок, наклонилась за ним и увидела рядом со своей рукой протянутую за этим же початком Лилину руку — ее не спутаешь ни с какой другой: пальцы унизаны перстнями и кольцами, она их никогда не снимает, разве что только дома. Избежать ее взгляда невозможно, но какими тяжелыми, непослушными стали мои веки. Лиля смотрела на меня весело, дружелюбно.
У нее оставался не подписанным один мой акт на сорок шесть килограммов «ориона» с несортным номером.
— Лиля, а где акт на «орион», надеюсь, ты передала его в бухгалтерию?
Улыбаясь, она порылась в кармане халата, достала оттуда вчетверо сложенный листок, протянула мне:
— Я болела.
— Опять сработали несортную пряжу! — Я разорвала акт: он уже потерял силу. — Пойду к твоему начальству, в систему у тебя вошло... По-твоему, техконтролер — лишняя единица в штате?
— Зачем так, Сашенька? Иди к начальнику цеха, иди к главному инженеру, жалуйся, твое право. Доставишь мне неприятности — получишь удовлетворение, ты давно ищешь такого случая.
— Я выполняю свой долг.
— Выполняй, пожалуйста, кто тебе мешает? Но, Саша... — Он взяла меня под руку. Движения у нее мягкие, ласковые, и пахнет она чем-то невероятно приятным. — Саша, я больше недели болела, а ты даже не позвонила.
— Мне нездоровилось, — солгала я.
— Но ты работала!
— С температурой.
— Да у тебя и сейчас, вероятно, температура повышена, ты какая-то... странная. — Она хотела прикоснуться к моему лбу, но я уклонилась, и тогда Лиля пошевелила пальцами поднятой руки, словно приветствовала кого-то. — Покажись врачу, Саша, тебе в такое время... нельзя относиться к себе легкомысленно.
— Не буду относиться к себе легкомысленно...
Лиля проводила меня до лестницы, ведущей на пятый этаж, и там сказала:
— Что-то я не пойму тебя сегодня, Саша!
— А разве ты когда-нибудь пыталась понять меня?
Я поспешила уйти.
После смены мы остались на собрание. Собрание проходило бурно, разговор шел о качестве. О таком говорить спокойно нельзя.
Клуб у нас уютный и какой-то необыкновенно теплый. На окнах — шелковые розовые портьеры, сквозь них будто струится мягкий солнечный свет. Разноцветные кресла без подлокотников, поставленные друг к другу впритык, придают помещению нарядность.
А цветов здесь сколько! И на стенах, и на окнах, и на сцене в плетеных корзинах: цветы меняются часто, а корзины уже служат несколько лет.
Вокруг меня кипят споры, обвинения, оправдания, виноватым себя не считает никто.
А я здесь сейчас как гостья, не принимаю участия.
У меня будет ребенок — вот что самое главное. Ромка ведет себя неровно. Не могу его понять. То зовет к себе, то молчит чуть ли не неделю. Надо бы давно сказать ему, что я видела, как они с Лилей целовались на кухне, и что на душе у меня от этого мерзко. Но не могу сказать. Стыдно за Ромку.
А недавно вот что произошло. Ольгуня достала билеты для коллективного похода в филармонию на концерт старинной музыки. XVII век, XIX. Мотеты, псалмы, мадригалы. Мне так хотелось послушать! Я взяла билеты для себя и для Ромки. Он обрадовался: «Я слышал об этом концерте, говорят, стоит пойти».
По пути мы зашли к Лиле, Ромка настоял: «На минуту, что тебе, трудно?» Мне не хотелось с ним ссориться.
Узнав, куда мы собрались, Лиля поморщилась.
— Нафталинчику понюхать захотелось?
Ромка тут же подыграл:
— И правда, зачем нам эта старина сдалась?
— Но ведь у нас билеты! — возразила я. — Ты сам говорил, что хочешь пойти.
— У нас билеты, — повторил Ромка. — Надо...
— Ну и что? — Лиля смотрела на него в упор.
Ромка достал билеты и порвал их.
Олег Семенович неожиданно рассмеялся:
— Давайте хоккей смотреть. «Крылышки» играют со «Спартаком». Саша, присаживайтесь в кресло, устраивайтесь поудобней, а Лиля нам кофе принесет.
— Слушаюсь!
— Помощник нужен? — оживился Ромка.
— Не нужен, — сказала я. — Садись отдохни.
Он сел, а я терзалась: зачем остановила его? Пусть бы. Но что, если и Олег Семенович вздумал бы пройти на кухню? Представляю скандал.
Ромка послушался меня, но это далось ему нелегко. Сжал челюсти, они у него двигались, будто он что-то пережевывал или, вернее, перетирал зубами. Как лошадь... Не понимает он, глупый, что я в командиры не гожусь, не признаю команд в семье, это унизительно для обоих, стыдно, надо, чтоб все было на равных...
Мне послышалось, будто кто-то сказал:
«Слово имеет техконтролер Нилова!»
Конечно, показалось. Никакого слова я не просила и вообще не слышала, о чем на собрании идет сейчас речь. К тому же я никогда не выступала нигде. Боялась чего-то. Вдруг косноязычить начну?
— Товарищ Нилова, пожалуйста!
Главный инженер приглашал меня на трибуну.
— Зачем? — удивилась я. — Мне слова не надо...
— Как это не надо? — громко возмутилась Ольгуня. До сих пор она спокойно сидела рядом со мной. — Сама просила. Я видела, как она руку поднимала. Давай, говори, Саша Нилова, чего ты застеснялась. Здесь же никого посторонних, свои. Кому, как не тебе, борцу за качество, и выступить сейчас?
Я должна была что-то сказать, это я понимала.
В клубе стало тихо. Люди ждали. Я встала, чувствуя, как дрожат мои колени. Ольгуня выручила:
— Пусть говорит с места!
Но я не знала, о чем говорить, с чего начать. Мой взгляд, беспомощно блуждавший по залу, встретился с Лилиным взглядом. Она сидела через проход, с краю, положив ногу на ногу, и смотрела на меня не то с любопытством, не то насмешливо. И тут я подумала о наших постоянных стычках из-за актов на забракованную пряжу.
Я видела только Лилю и говорила только ей.
Рассказала, как мне приходится почти ежедневно сталкиваться по работе со сменным мастером Мурашиной, как она выбрала свой, индивидуальный метод борьбы с браком — не подписывать акты, составленные техническим контролером. То, что ткачи вынуждены срабатывать несортную пряжу, Лилию Мурашину не волнует, она надеется на авось. Авось проскочит через ОТК в уже готовом виде. А я не могу спокойно смотреть, как уже готовую, проглаженную и промеренную ткань снова пускают в переработку, отдают на растерзание машине-«волчку», которая рвет в клочья такую ткань, рвет в лоскут. А Мурашиной все равно! Ей лишь бы выпустить продукцию из своего цеха, а там трава не расти...
Я громко вздохнула и села.
Послышались аплодисменты. Меня награждали за храбрость.
— Молодец, — шепнула Ольгуня. — Ты здорово раздела принцессу.
— Разрешите вопрос к Ниловой, — прозвучал Лилин голос. — Где акты, которые я якобы отказывалась подписывать? Пусть предъявит. Заявление Ниловой голословно!
Лиля знала, что таких актов у меня нет ни одного — я их уничтожала.
— Покажите, Нилова! — требовала Лиля. — Чтобы обвинить человека, нужны доказательства. Собрание ждет!
Я поднялась.
— У меня нет таких актов. Я их рвала. Они уже были никому не нужны.
— Вот видите! — торжествовала моя подруга. — Какое же это доказательство? Мало ли чего можно наплесть... Я не хочу сказать, что таких актов вообще не было, мы часто спорили, это верно, но Нилова никогда не стоит на своем, уступает всегда. Соглашается! Она же как болванчик, только и умеет кивать. Скажите ей на белое, что это черное, она тут же согласится, поверит...
— Ишь как загнула! — попыталась заступиться за меня Ольгуня.
А потом слово попросила Валерия Ивановна — она обвиняла Лилю.
Я вконец расстроилась: не надо мне было выступать, получилось, будто я предала Лилю, предала, все вышло так нескладно.
Домой я попала не скоро, и как же обрадовалась, увидев в нашем дворе Ромку, побежала ему навстречу:
— Ромка, милый, вот хорошо, что ты пришел, спасибо, у меня такое настроение, ну не могу просто...
Он вытянул вперед руки, как бы защищался от меня. Я испугалась: что-то случилось?
Случилось...
Оказывается, Лиля рассказала Ромке о собрании, о моем выступлении.
Чего только Ромка не наговорил мне!
Я стояла и слушала. Надо было уйти, повернуться и уйти, убежать, а я стояла. И слушала. Зато узнала, что я карьеристка, подлая завистница, из-за ревности испортила человеку репутацию, Лилю ценили на работе, доверили должность сменного мастера еще до окончания института.
— Ты облила грязью человека, с которым недостойна стоять рядом, а не то что голос на нее повышать!
Оказывается, Лиля уполномочила его поехать ко мне и сказать, что я потеряна для нее навсегда и нечего мне искать пути к примирению: никакие извинения, никакие благородные поступки, на которые я, кстати сказать, не способна в силу своей примитивности и умственной ограниченности, не искупят моей вины.
— И как ты могла подумать, что я женюсь на такой... лицемерке? Думала, ребенок заставит? Ты специально подстроила, чтобы накинуть на меня петлю. А теперь Лиля на очереди?
— Зачем ты так? — Я словно очнулась. — Все вышло случайно. Я не хотела ее обидеть, говорила правду...
— Замолчи! — крикнул Ромка. — Знаю тебя, умеешь устраиваться. Неизвестно еще, кто чьей слабостью воспользовался. Ненавижу тебя, ненавижу!
Он вылетел из нашего двора, как из горящего дома.
Я заперлась у себя дома, присела к столу, положила на ладони лицо, так можно сидеть долго-долго. Я обдумывала то, что должна была сказать Ромке: «Я не собираюсь за тебя замуж. Не беспокойся. Ты же флюгер! Какую роль ты отвел мне в своем спектакле? Роль ширмы или дублера? Я прыгну с обрыва, а крупным планом снимут перекошенное от страха Лилино лицо? Ты что, так и будешь всю жизнь в роли дворняги — в комнатах тебе жить не полагается, а на будку хозяйка скупится? А ты хоть раз подумал об Олеге Семеновиче? Так кто же из нас лицемер? А теперь отправляйся домой и никогда не возвращайся. Ты мне противен!»
Вот что надо было ему сказать. Но ответ всегда приходил ко мне задним числом и звучал, как выстрел по уже убитой дичи.
Я старалась вызвать в себе чувство ненависти к Ромке, презрения к нему, но ничего у меня не получалось. А что, если я действительно воспользовалась его слабостью? Это звучит ужасно, ну а если подумать? Я же знала, что он меня не любит, знала! Но это меня не остановило.
А ведь все зависело от меня, только от меня, стоило слово сказать, запротестовать. Получается, что это я подвела Ромку...
Я как-то уже подводила его. На уроке литературы...
В школе Ромка и Лиля читали мало, зато я должна была знать обязательную литературу и подробно пересказывать им. Но пересказывала я все по-своему, не любила книг с плохим концом, мне хотелось, чтобы все хорошие люди были счастливыми.
Андрей Болконский у меня, например, не умирал от ран. Его спасала любовь Наташи Ростовой. А доктор Дымов из рассказа Чехова «Попрыгунья» не только выздоравливал, но и «прозревал». Не мог такой замечательный человек, такой добрый, умный, не видеть и не понимать, что собой представляет его жена-попрыгунья. И вот он взял ее однажды за ухо и повел так к вокзалу через весь дачный поселок, а там сказал: «Убирайся отсюда, дрянь паршивая, и чтобы духу твоего здесь больше не было!»
Ромка все это от слова до слова и пересказал учительнице, когда его вызвали отвечать.
Что в классе творилось!
После этого Ромка долго не разговаривал со мной, хотя я и подходила к нему несколько раз, подносила к лицу правую руку, винилась.
Но он не скоро отпустил мне мой грех...
Но почему я думаю только о Ромке? Не много ли чести?
Глава седьмая
КРЕСТОНОСЕЦ
Я знала, что у Ольгуни выходной, поэтому удивилась, увидев ее в красном уголке. Ее не узнать: сделала высокую прическу, от лака и начеса волосы стали похожи на парик. Платье новое, коричневое, на шее нитка янтарных бус.
— Для Доски почета заставляют сфотографироваться, — сказала она, подходя к зеркалу. — Надо же, сама себя испортила! Зачем, спрашивается? Саша, пойдем со мной, а? Чего не люблю, так это фотографироваться — сиди как мумия. Или улыбку заставят сделать. Она и выходит как приклеенная. Пойдем, Саша, выручай, пожалуйста!
— Хорошо...
После ателье Ольгуня позвала меня к себе домой:
— Чайку попьем, посплетничаем. А давай на такси махнем! Кутить так кутить!
Она за руку потащила меня к машине с зеленым глазком.
Шофер, пристроив на руле книгу, читал. Ольгуня подергала закрытую дверцу, потом постучала по крыше кабины: окно было закрыто, но шофер и не шевельнулся, пока не дочитал страницу, заложил ее игральной картой, кажется, то был трефовый туз, затем приподнялся, сунул под себя книгу и открыл дверцу:
— Так куда мы едем?
— С вами — никуда! — отрезала Ольгуня. — Когда вы научитесь вежливости, тогда...
— А если от книги не оторваться?
— На работе не читают. Пошли! — Ольгуня подхватила меня под руку. — Смотреть на него не могу, а не то что ехать рядом...
Мы поехали автобусом.
Ольгуня не переставала возмущаться:
— Учим, учим, а они... Никакого уважения...
— Не все же такие.
— К счастью.
Как только мы вошли к Ольгуне в квартиру, она распахнула окно — душно, и, извинившись, принялась расчесывать залитые лаком волосы: «Не могу, будто налипло что-то...» Расчесала, намочила волосы и опять стала привычной Ольгуней с круто зачесанными назад волосами, как бы оттягивающими кожу со лба, приподнимавшими уголки глаз к вискам.
Стояла передо мной помолодевшая, с блестевшими капельками воды на лице:
— Сейчас я тебя, Саша, кормить буду. У меня есть борщ, макароны по-флотски и ватрушка.
Пока она хлопотала на кухне, я разглядывала комнату. Два сдвинутых вместе шкафа с книгами. Над ними, в траурной окантовке, портрет летчика. Большелобое симпатичное лицо с открытой улыбкой.
Ольгунин муж. Потерять обе ноги... Молодой, влюбленный. Хорошо, что у него была Ольгуня. А если б попалась такая, как Лиля?
Но сколько здесь книг! У Олега Семеновича тоже большая библиотека, стеллаж занимает всю стену гостиной. Лиля не поленилась написать на титульном листе каждой: «Украдено у Мурашиных», — на случай, если кто присвоит книгу. А в гостиной она повесила плакат:
Не шарь по полкам жадным взглядом,
Здесь книги не даются на дом.
Поскольку только идиот
Знакомым книги раздает...
Сама читает его всем со смехом.
«Я это... предупреждение снимал несколько раз, — говорил Олег Семенович, — но Лиля...»
«Не ты повесил, не трогай!..»
У Ольгуни множество диковинных фигурок из сухих веток и коряг. Я заинтересованно разглядывала фигурки. Цапля (ну прямо живая!) поджала ногу, вытянула шею. Тут и олень с роскошными рогами, и старичок-лесовичок с хитрющим взглядом, будто подглядывает за тобой, и странная птица, которая вот-вот взлетит.
— Саша, а что, если мы пообедаем на кухне, а сюда переберемся чай пить?
— Конечно!..
Я хотела вымыть тарелки, но Ольгуня запротестовала:
— Чего еще выдумала! Ты гостья. Идем в комнату, за чай примемся.
Она набросила на полированный стол белую скатерть, внесла на подносе чайник, чашки и вазу с печеньем, потом сходила за ватрушкой, переложила ее из бумаги на плоскую тарелку.
— Сейчас мы с тобой...
— Откуда у вас эти фигурки? — спросила я.
— Из леса. Из парка.
— Я не о том. Кто их сделал?
— Природа. Я только сняла засохшую кору и немного наждачком прошлась.
— Замечательно!
— Теперь видишь, как я живу? А то три года работаем бок о бок, а ты ни разу ко мне не зашла.
— Не приглашали.
— И это верно. Мое упущение. Исправлюсь. — Ольгуня налила мне чаю. — Пей, Саша! Видишь, я не одна живу. Сколько у меня лесных друзей... А ведь я тебя специально сегодня позвала, не догадалась?
— Нет.
— Поговорить с тобой хочу, не нравишься ты мне что-то. Не могу смотреть на тебя такую, сердце болит...
— Не могу вас понять... Почему вы заботитесь обо мне? Я чужой для вас человек, а вы...
Ольгуня засмеялась:
— А может, просто подлизываюсь. Одинокая. Умру — некому будет на могилку приходить. А так, может, Саша Нилова когда заглянет, цветочков принесет...
Я всегда старалась избегать Ольгуниного взгляда, а на этот раз сама уставилась на нее. Она не ожидала этого и не успела притвориться веселой.
— Вам плохо?
— Не то что плохо, Саша. Одна... Детей нет. Хотели, а не было, так и прожили...
Я подумала: а что, если сказать ей, что у меня будет ребенок? Осудила бы без промедления: не замужем ведь.
— Саша, я вот о чем... Тебе надо учиться...
— Хотите и меня, как Грушу в свое время, за ручку водить?
— Не шути, Саша. Начальником ОТК станешь, поднимешься. Тебе надо посмелее жить, уж больно ты застенчива, все в тень прячешься. А ты на солнышко выйди, на солнышко.
— Интересно, — сказала я.
— Давай вместе подумаем, куда тебе лучше всего поступать. Учиться все равно пойдешь, уж я от тебя не отстану, не надейся.
— Какая тут учеба? — вырвалось у меня. — Ребенка жду.
Ольгуня поставила на стол уже поднесенную было ко рту чашку с чаем.
— Да ты никак разыгрывать меня вздумала?
Я заплакала.
Ольгуня не сказала больше ни слова, подняла меня от стола, повела к креслу, усадила рядом с собой, погладила по голове, склонив к своей груди, ласково, легонько, и сама заплакала.
Наплакались мы вдоволь, а потом я торопливо, сбиваясь, боясь упустить самое главное, поведала Ольгуне о своей жизни с того самого дня, когда помнила себя.
А в заключение добавила:
— Не везет мне ни в чем. Выхода никакого не вижу...
Ольгуня со вздохом встала, унесла на кухню посуду, сняла со стола скатерть, сложила ее аккуратно, спрятала и уже потом сказала знакомым задиристым голосом:
— Ночевать у меня останешься. Не отпущу никуда. И не спорь со мной! Вот постелю сейчас — и ложись.
Я смотрела, как Ольгуня стелила мне постель: заменила простыню, наволочку, терпеливо заталкивала легкое одеяло в слипшийся от крахмала белоснежный пододеяльник.
Я несколько раз порывалась помочь, но меня каждый раз осаживали:
— Ты гостья, не рыпайся!
Обо мне никто так не беспокоился, не угощал с таким радушием и не стелил постель тем более. Только мама. Помню, укладывая меня спать, она всегда пела, похлопывая легонько по спине: «Спи, мой звоночек родной...»
Ольгуня устроилась на раскладушке. Спорить с ней бесполезно.
Хорошо у Ольгуни, уютно, приятно шуршит чистое постельное белье, только мешает непрерывный автомобильный гул. Дом стоит на перекрестке, и машины круглые сутки движутся по двум примыкающим улицам.
А у нас тихо. Окна смотрят во двор. Но почему у нас? У меня. Папа и тетя Ира переехали в свое ситцевое гнездышко. А я вдруг стала бояться темноты, на ночь зажигаю настольную лампу. Раньше свет мешал мне, теперь я в нем нуждаюсь даже ночью.
— Саша, я хочу тебе что-то сказать. Но только без обиды. Я тебе добра желаю, от всего сердца желаю, слышишь?
Я промолчала, но Ольгуню это не остановило.
— Ты можешь без чужой помощи ложку в руках держать? — спросила она. — Умыться самостоятельно можешь? Заработать на жизнь силы пока что есть?
— Не понимаю вас.
— Понимаешь. Отвечай!
— Могу обойтись без посторонней помощи.
— Я это к чему, Саша... В нашем дворе живет один мальчик, лет ему примерно семнадцать, может, больше. Парализованный. Вывозят его на коляске. Голова набок, руки скрючены, ноги не действуют. Скажи, это горе?
— Еще какое.
— Идем дальше. Тебе повезло, Саша, о войне ты знаешь только из кино и книжек, по рассказам...
— Я же не виновата, что родилась после войны!
— Не кричи, я не глухая. Нo какое ты еще суровье, Саша Нилова, сколько еще времени понадобится, чтобы довести тебя до...
— Нормы?
— То-то и оно. Ты молодая, здоровая, совесть у тебя на первом плане. Учиться можешь и будешь непременно, это я беру на себя.
— Но ведь у меня будет...
— ...Ребенок? Прекрасно! Да еще от любимого человека. Это счастье, Саша, поверь мне, женщине, кое-что повидавшей в жизни. Я знаю, как страдают бездетные, в семьях бывают такие трагедии...
— Да, но ребенок без отца... не справлюсь...
— А ясли на что? Пускай с пеленок привыкает к коллективу.
— И все равно страшно.
— Чего тебе бояться? Ты же не Анна Каренина, чтоб от несчастной любви под поезд бросаться? Тоже мне, еще один крестоносец объявился! Знаешь, что такое крестоносец в современном понятии? Человек придумает себе крест, взвалит на плечи и таскает всю жизнь, и видит только то, что под ногами. И стонет, и чертыхается, и жалуется беспрестанно на все подряд, зануда какая-то, себя терзает и другим жизни не дает. И у тебя свет клином сошелся на любви к этому... типу. Извини, Саша, но иногда на тебя смотреть противно — сутулишься, горбатишься, ходишь как пришибленная. Неинтересно ты живешь, Саша Нилова, думаешь только о себе. Любишь себя больно.
— С чего вы взяли? — с досадой сказала я. Лицо мое пылало от стыда. Не надо мне было приходить сюда, знала же, что начнут воспитывать, упрекать, мне и без Ольгуни тошно. Ромка пропал. Видно, ему стыдно показаться мне на глаза, прячется. Да и я боюсь встретиться с ним, не могу забыть, как он сказал: «Неизвестно еще, кто из нас воспользовался чьей слабостью!» Постыдился бы говорить это мне, тоже еще, мужчина... А может, ему хочется помириться со мной? Если б он любил меня...
— Если б все только и думали так, как ты: красивая, некрасивая, любит, не любит... Жизнь приостановилась бы. Не так ты живешь, не там счастье ищешь.
— Ничего я не ищу.
Я только сейчас заметила, что разговариваю с закрытыми глазами. Комната освещалась уличными фонарями. На стене, как раз над моей постелью, косо отражалось окно и стоявший на подоконнике горшок с цветами, на стене эти цветы похожи на угластую вазу с фруктами.
— Ищешь, девочка, ищешь... Любовь, личная жизнь — это конечно... Человеку трудно без всего этого. Ну а если не повезло в любви, если личная жизнь не сложилась, тогда что? Значит, ищи опору в другом — в работе, в общественной жизни, стань полезным, нужным обществу человеком. Ничего, я тебе дело найду, хватит тебе жить сонной мухой, подберу что-нибудь, подумаю и подберу... Ты вот присмотрись, как живут наши фабричные женщины. У каждой счастья полный карман? Эге-ге! А они живут, хорошо живут, каждая нашла себе дело по душе, не замкнулась, не ожесточилась. И в работе не последние; на высоте, одним словом, держатся. А ты топчешься вокруг своего Ромки, как глухарь на току, ничего больше не видишь и не слышишь.
Не надо, не надо, не надо мне было приходить сюда! Знала же, что меня здесь ждет, и пошла, отказаться не решилась, бесхарактерная!..
— Возьми хоть бы нашу директрису. Что ты о ней знаешь? Красивая, счастливая женщина, директор фабрики, депутат Верховного Совета, дом полная чаша, так? И еще скажешь, что ей повезло: на фабрику пришла прядильщицей, а теперь, видишь... Позавидовать можно, так? А ты послушай, что я тебе про нее расскажу, послушай, Саша Нилова! На фронте наша Евгения Павловна с пареньком одним встретилась, служили они в одной части, в самодеятельности выступали: он на баяне играл, она пела. Полюбили друг друга, все любовались ими, там же, на войне, как на ладони все было, чисто любили, светло. И когда паренек попросил у командира разрешение, чтоб пожениться, не дожидаясь конца войны, им разрешили. Солдатскую свадьбу справили, командир на время свою землянку им уступил. И вот разошлись все, паренек говорит своей молодой жене: «Я выйду на минутку!» Улыбнулся, вышел — и все... Артналет как раз. Наповал... Поцеловались они первый раз, когда им за свадебным столом «горько» прокричали... После войны Евгения Павловна встретила хорошего человека, замуж вышла, сына родила. Мальчик с золотой медалью школу закончил, в университет поступил. Сестра Евгении Павловны пригласила его провести каникулы в Грозном. Поехал и там утонул в Тереке... Боялся воды, плавать не умел, а захотел перейти речку. Девочки с ним были две. Шли по песчаной косе, шагнул он в воду, когда коса закончилась, думал, что и там мелко, закричать только и успел. Там четырехметровая глубина оказалась. Девочки испугались, близко никого. Нашли тело на четвертые сутки, привезли домой в цинковом гробу... Как сейчас вижу: ходит Евгения Павловна вокруг этого гроба, вся в черном и сама черная, и приговаривает охрипшим, монотонным голосом, волосы от этого голоса у меня дыбом поднимались: «Мальчик мой, какие у тебя ножки большие стали, ничего надеть на них нельзя, распухшие... Ты мне говорил: «Мама, можешь теперь мною гордиться, я студент, ты так хотела, чтоб я поступил в университет, я поступил». Сколько цветов нанесли тебе, счастье мое... Что ж это я «счастье» говорю, это горе горькое, какая несправедливость! Ты хорошим был сыном, слушался маму, не обижал... Зачем же ты ушел от меня, родной, оставил меня, сыночек... Маленький ты мой, солнышко мое ласковое, как же я теперь без тебя жить буду!» Вот так и ходила вокруг гроба, ни на минуту не умолкая.
— Я этого не знала... Никто не рассказывал.
— Такое рассказывать тяжело. А про меня тебе что-нибудь говорили? Как я своего мужа нашла? Сидел он у магазина, закатал штанины, культи выставил... рядом шапка... Христарадничал. Сломался было человек. Хлебнула я с ним... Но ему было от чего сломаться, а тебе? Разве вашу молодость с нашей сравнить можно? Сколько для вас, молодых, делается! И стадионы с бассейнами, и общежития с комнатами на двоих, не хуже первоклассных гостиниц, спортзалы, театры как храмы. А мы в сараюшках фильмы смотрели и радовались... Я не то что завидую вам, молодым, нет, это не зависть, просто обидно до боли, что вы ничего этого не видите, не замечаете, радоваться по-настоящему не умеете. Пресытились... Почаще бы вам кинохронику о прошлом показывать, может, дойдет. Оборванные мужики, бабы, бревенчатые стены с гвоздями вместо вешалок, полати, скамьи, дерюги вместо постели, тряпье на детях. Все это было же, было! Недавно совсем. А девалось куда? Эх вы!
Я долго не могла уснуть. Ольгуня, конечно, уверена, что взбодрила меня, «поставила с головы на ноги», но какую тоску она на меня нагнала! Не справиться мне с собой, сил нет, и взять их неоткуда…
Глава восьмая
Крючки и автоматы
Ольгуня сдержала свое слово: нашла мне «дело», с хитрецой подошла: «Почитала бы ты сегодня, Саша, газеты вместо меня, голова что-то болит, таблетка не помогла». На другой день у нее вдруг насморк появился, хотя внешне никаких признаков. На третий — «мороженого поела, в горле першит, что ж мне после каждого прочитанного слова откашливаться? Выручай, Саша Нилова, в долгу не останусь».
А потом она меня в партком потащила: «Идем, идем, вызывают тебя туда зачем-то!»
В парткоме выяснилось, что меня никто и не думал вызывать, там Ольгуня представила все так:
— Вот, пожалуйста, Нилова хочет политинформатором в ткацком вместо меня. Неплохо у нее получается.
Меня похвалили, что я сама себе выбрала общественную работу, руку пожали, успехов пожелали.
За дверью Ольгуня затараторила, не давая мне рот открыть:
— Ладно, ладно, много ты говорить любишь, Саша Нилова, лучше на деле себя покажи!..
Приходится «показывать».
Первые дни я очень волновалась, хотя волноваться было не из-за чего. В красный уголок, как всегда, приходили только свои, усаживались за столами, шуршали свертками и слушали, что им читают. Я боялась другого: вдруг начнут задавать вопросы, а я? Правда, Ольгуня всегда была рядом: «Не робей, Саша Нилова! Не сумеем ответить, запишем, подготовимся, ответим в другой раз!»
И еще она мне пообещала: «Это тебя так затянет, что жить без газет, без того, чтоб не посмотреть программу «Время», не сможешь, на часы будешь поглядывать: увидеть, послушать, узнать и рассказать другим. Весь мир перед тобой раскроется, сто раз спасибо мне скажешь!» Не думала, что она окажется права...
Ох и устала же я сегодня!
Пришлось снять с выработки ночной смены всю партию зеленой «кометы» из-за никудышного прочеса. Прядильщики, как водится, напали на меня:
— Кто ж тебе задаром работать станет?
— А вы работайте без брака! — отбивалась я.
Лиля бережно взяла меня под руку, увела в кабинет своего начальника: там тихо, никого нет.
Я знала: надеется уговорить меня.
— Сашенька... — Подруга улыбалась мне ласково. — Саша, хватит тебе размахивать актом! Ты же сама видишь, положение у нас с зеленой «кометой» безвыходное, ткачам работать не с чем, пойми!
Я это знала: ткачам действительно до зарезу нужна была зеленая «комета», но я видела и другое: в готовом виде непременно выявятся редины и утолщения, и вряд ли такой товар проскочит, на что надеются аппаратчики, через ОТК. Спрашивается, что выгодней забраковать: пряжу или уже готовую продукцию?
— Если бы не было исключений, не было бы и правил, — настаивала Лиля. — Договоримся так: ты ничего не знаешь, не заметила.
— Но я-то заметила и знаю!
— Значит, разговор наш бесполезен?
— Абсолютно.
Тогда Лиля спросила, понимаю ли я значение слова «тупой» применительно к человеку и почему иногда называют не просто дураком, а круглым дураком, если хотят усилить последнее слово? Круглый. Ни уголков, ни шероховатостей хотя бы. Даже крохотная мыслишка не задержится, скатывается, как капля дождя со стекла. И заключительный аккорд:
— Я читала, не помню сейчас где. Там сказано об одной девице, будто мозги у нее в бюсте. Никаких извилин...
Я выслушала все это молча. Когда Лиля «выдохлась», я сказала:
— Или ты сейчас же подпишешь акт, или...
— К главному инженеру побежишь?
— Пойду. Не жди, чтоб я потакала бракоделам! Постыдилась бы говорить об этом. Ты еще институт не закончила, а тебе доверили работу сменного мастера! Так цени это и болей за честь фабрики! Ты ведешь себя как девчонка, которая понятия не имеет, что означает для фабрики выпустить некачественную продукцию! Подпиши акт, последний раз говорю, Мурашина!
Лиля вдруг часто-часто заморгала, шмыгнула носом, склонилась над актом, подписала его и швырнула так, что он упал на пол. Я подняла акт и вышла из кабинета.
У Лили удивительная способность портить мне настроение. Оно у меня и без нее подавленное было — от сегодняшнего сна не успела опомниться. Снилось, будто я надумала умереть, специально для этого простужалась, вышла во двор к доту, сняла сапоги — будто зима была, снег вокруг, и постояла на снегу босая. Все я рассчитала заранее: к вечеру у меня поднимется температура, начнется воспаление легких, лекарств принимать не буду, и конец. Никаких терзаний, никаких сомнений. Отчетливо виделось, как я вошла к себе, вымылась под душем, переоделась во все лучшее и легла умирать. И вот я лечу куда-то вместе с кроватью, как принцесса из кинофильма «Старая, старая сказка», хочу за что-то схватиться, но вокруг пустота. Кричу: «Мама, не хочу умирать, спаси меня!» И просыпаюсь...
Хорошо, что этот бред мне только приснился...
Сегодня наша фабрика как потревоженный муравейник — в газете появилась статья о нас под названием «Крючки и автоматы».
На работе мне первой встретилась Цымбалючка:
— Слыхала новость? Про нашу фабрику в газете есть!
Груша промчалась мимо нас, крикнув на ходу:
— Пропесочили, вот это дело!
Представляю, как ткачихи ждут обеденного перерыва. Признаться, и я жду его с нетерпением: одно дело прочитать дома про себя, другое — в коллективе да разобрать ее всем вместе.
Я приготовилась к этому своеобразному занятию заранее. Убрала со стола все лишнее, положила газету статьей кверху, рядом блокнот и ручку: вопросы записывать.
Женщины одна за другой входили в красный уголок, подсаживались к столу и сразу же доставали украшения: цепляли серьги, брошки, кольца. Каждая, прищурив глаз, пыталась увидеть себя в карманном зеркальце и оценить. И смешно, и радостно: всем хочется быть нарядными, красивыми, возраст здесь не в счет.
Но почему я до сих пор не купила себе перстенька хотя бы или брошку? Куплю при первой же возможности и буду приносить на фабрику. Как все... Нигде же, кроме фабрики, не бываю. Наши ходят в культпоходы какие-то, на выставки и в театры. А почему я живу как старый, усталый человек? Один только раз за два последних года в театре была, и то Олег Семенович пригласил. Правда, я читаю много. Но разве этого достаточно, чтоб много знать?
Послышался плач, женщины повскакивали с мест. Закрыв лицо ладонями, покачиваясь как от зубной боли, плакала Валерия Ивановна.
Все к ней:
— Что случилось? Да открой же ты лицо!
Ей подставили стул, кто-то протянул носовой платок. Она вытерла им глаза и нос и заплакала снова. Но уже тише.
— Господи, не томи ты нас, Ивановна, скажи!
— Командир... Где сынок служит... письмо прислал... Благодарность за сына...
Женщины разом вздохнули.
— Ну и напугала до смерти! Радоваться тебе надо, гордиться, а ты слезы льешь, чудачка!
— Так ведь... — Валерия Ивановна всхлипнула.
— Вот тебе и ведь!..
— Товарищи! — сказала я негромко. — Времени у нас с вами не так уж и много, а статья...
Я не могла не порадоваться тому, как все сразу стихли, повернулись ко мне с готовностью, с интересом, и только когда я дочитала статью до конца, заговорили все сразу, перебивая друг друга. Вспомнили молодого человека в куртке канареечного цвета: он немногим больше недели огоньком мелькал в цехах, ко всему присматривался, прислушивался, и увидел же! Мо-ло-дец!
Да, верно, уровень механизации у нас составляет всего лишь сорок восемь процентов. На фабрике все еще много ручного труда. Есть крючники, как когда-то еще на демидовских заводах. Зацепит подвозчик крючком ящик с пряжей и тащит его к тележке, железный ящик трется о цементный пол — музыка! А пылищи сколько!
И про цехи в статье сказано верно: тесно, душно, проходы забиты ящиками, в которых передается продукция от операции к операции. Потолки низкие, вентиляция давно устарела, поэтому часто можно видеть, как под вытяжную трубу подбежит кто-нибудь, подышит открытым ртом, как пловец, вынырнувший из воды, и снова мчится к своему рабочему месту.
Новички на фабрику идут неохотно: стара больно!
Но вот чего не увидел корреспондент: кто пришел на фабрику, не уходит, привыкает как к родному дому. Наверное, это можно назвать любовью к своей фабрике.
Если бы, скажем, наши колористы работали спустя рукава, разве появились бы прекрасные ткани — «березка», «космос», «комета»?
И еще наша старая фабрика первая в стране освоила производство нетканых материалов, уже выпустила целую радугу костюмной шерсти в рубчик — синего, голубого, коричневого, зеленого и песочного цветов. По внешнему виду ткань эта похожа на трикотаж, поэтому ее и назвали трикотином.
— Да, умеет видеть газетчик, — сказала Валерия Ивановна. — И за такое короткое время. И все правда, хорошо копнул...
— А толку? — возразили ей. — Все так и останется: и крючники, и духота, и теснотища.
От двери послышалось:
— Обещали реконструировать фабрику, да так и...
— А кто возьмет на себя эту смелость? — спросила молчавшая до сих пор Ольгуня. — Переоборудовать — значит, надо нарушить конструкцию, резать балку или подпору. А здание-то строилось еще при царе Горохе! Рухнет — и поминай как звали. Если, скажем, приспособить автокары... Для них пролеты нужны. А у нас и так повернуться негде. Подвесные дороги? Не получится. Потолки низкие, техника безопасности не даст.
— Так зачем же тогда острая статья, если все останется как и было?
— Статья нужна, — сказала Ольгуня. — Кое-кто почешет затылок. Может, скорее начнут строить новое помещение, обещали же. Современное, по последнему слову техники, а нас под склад. Пока будем работать, как работали до сих пор. Надо использовать старую фабрику сколько возможно. Мы же не выбрасываем старое платье, пока не купим новое? А новое заработать надо.
Цымбалючка громко вздохнула:
— Вот что обидно: мы тут, а молодняк идет на новые фабрики, наслаждается там, а мы... хранители музея.
Когда работницы разошлись, Ольгуня сказала мне:
— Ну как, Саша? Интересно, правда? Ты вроде стерженька, вокруг которого жизнь вращается. Втянешься! Люди уважать тебя станут больше, чем раньше, ты же им на многое глаза откроешь.
— Я сама ничего не вижу.
— Давай уточним: не видела. И будем считать, что это уже в прошлом. Идет?
Я улыбнулась:
— Идет!..
Глава девятая
СУД ЧЕСТИ
В фабричный клуб одна за другой входят женщины. Двигаются они по узкому проходу, ведущему к сцене, не спеша, вразвалочку, как утки, посматривают то в одну, то в другую сторону — облюбовывают себе места.
Мужчины выстраиваются вдоль стены за последним рядом, будто собираются петь хором.
Сегодня у нас собрание. Особенное. Скорее его можно назвать судом чести: мужа нашей Цымбалючки уличили в воровстве. Мало того, что он украл, и, как выяснилось, не первый раз, мешок шерстяной пряжи, так еще втянул в эту грязную историю паренька по прозвищу «Морячок». Он мечтал поступить в мореходное училище, пришел к нам поработать грузчиком, и вот...
Я пришла пораньше, выбрала укромное местечко у окна, мне все кажется, будто я привлекаю своей располневшей фигурой всемирное внимание.
О моем «интересном» положении на фабрике знают давно. На другой же день после нашего ночного разговора с Ольгуней, когда я вешала на доску в проходной свой рабочий номерок, табельщица вдруг спросила:
— Нилова, тебя можно поздравить?
— С чем это? — не поняла я.
— А это потом увидим: с мальчиком или с девочкой... Возьмешь меня в крестные?
Я прибежала к Ольгуне сама не своя:
— Обо мне все знают!
— Ну и что? — спокойно отозвалась ткачиха. — Я специально рассказала Цымбалючке. А она уже постаралась добросовестно.
Я обиделась. Никогда такого от Ольгуни не ожидала.
Она попыталась успокоить меня:
— Глупая ты, Саша, глупенькая девочка... Тебе ж так лучше. Бабы посплетничают, почешут языки, потом примут твою сторону. Материнство — дело святое. За такое бабы осуждать не будут, а тем более матери.
Ольгуня оказалась права. Я очень скоро почувствовала, что обо мне вдруг стали заботиться, подкармливать даже: то сливки поставят на мой стол, то яблоки, то апельсины принесут, и все это когда меня нет, я не знала даже, кого благодарить.
И в то же время женщины подшучивали надо мной, нисколько не щадя меня:
— Помянете мое слово, Нилова двойню принесет!
Или:
— Не бойся, Саша, ничего. Будет трудно рожать, позвони в ткацкий цех, мы тут сообща покряхтим, поможем.
Только Лиля держалась со мной официально. Зато акты на забракованную пряжу подписывала безоговорочно. Один только раз она заговорила со мной, и то с каким-то угрюмым вызовом:
— Решилась, значит? Отчаянная... Но вряд ли это поможет тебе. Ромка не вернется! Впрочем, его у тебя никогда и не было. Он не женится, пока я этого не захочу. А я этого никогда не захочу.
Я нашла в себе силы спокойно ответить:
— Кстати, Ромка тут ни при чем.
Тонкие полукруги Лилиных бровей взметнулись вверх:
— То есть?
— Твой Ромка никакого отношения...
— Не понимаю, — перебила Лиля.
— И не пытайся.
— Но...
— «Но» у нас с ним не было.
— Как не было? Он всегда мне все рассказывает.
— На этот раз обманул.
Лиля затрясла головой:
— Нет, Саша, нет!
— Да, Лиля, да!..
Я подняла голову и увидела у сцены Цымбалюка. Он то и дело поддергивал брюки: они у него стоят как две гофрированные трубы, не видно, во что обут.
Рядом с ним «Морячок» с покрасневшими глазами. Мальчишка плакал?! Пиджак на нем расстегнут, видна тельняшка, прославленная матросская тельняшка. Как он смел надеть ее! С репутацией вора его теперь не примут в мореходное училище. Вот дурак! Только-только начинает жить и...
Недавно вот в этом же самом клубе мы слушали лекцию о формировании характера человека. Личность формируется под воздействием среды, коллектива, выявляются отношения к труду, к жизни, к товарищам. Можно ли назвать характер своего рода судьбой?
«Морячок» не родился вором. Он мечтал поступить в училище... Цымбалюк уговорил его перебросить мешок с пряжей через забор, пообещал пай от выручки, паренек не устоял.
Почему-то я стала думать о своей судьбе.
Начинала жить неуверенно и настороженно, как слепой, попавший на многолюдный перекресток: слышала уличный шум, чувствовала солнце и ветер, знала, что перейти дорогу надо именно в этом месте, но ничего не видела! И без чьей-то помощи не могла сдвинуться с места.
А вдруг на моем пути стал бы Цымбалюк, а не Ольгуня?
Перед Ольгуней я в неоплатном долгу. Удивляюсь теперь: как могла жить так скучно, замкнуто, что делалось за пределами фабрики и моего дома, не интересовалась. Весь мой мирок вертелся в кольце: Ромка, Лиля и я, несчастная, никому не нужная. Только эта мысль и занимала мою голову.
Теперь я вхожу в красный уголок, как раньше входила Ольгуня, с бодрыми словами:
«Ну как, бабоньки, жизнь? Все в порядке? Тогда давайте посмотрим, что делается на белом свете!»
Я смотрела на подруг, товарищей по работе со смелостью учителя, который добросовестно подготовился к уроку.
Мир как бы раздвинулся передо мной, стал шире, понятней. И знать все больше и больше стало моей потребностью. Люди идут ко мне с вопросами:
— Саша, а как понять наши теперешние отношения с ФРГ? Простили мы им прошлое, так выходит?
— А почему люди всех стран не могут объединиться в интернациональные бригады, как было в Испании? Чтоб помочь чилийским патриотам прогнать фашистскую хунту?
И я отвечаю! Отвечаю и сама себе не верю, что это я. Поневоле уважать себя станешь.
Политинформатор ткацкого цеха... Не бог весть какая общественная работа, но если люди обращаются к тебе и верят, что ты поможешь им кое в чем разобраться, узнать, понять, разве это не радость? Помню, Ромка говорил, что главное в жизни — быть кому-то нужным.
Я стала нужной. Я теперь понимаю, почему работницы так льнули к Ольгуне — она связывала их с внешним миром. Сама же слышала, как они говорили, что в газету заглянуть некогда, к телевизору не всегда подсядешь.
Мне надо учиться! Надо... Вот бы поступить в институт марксизма-ленинизма... Но туда меня не примут, там обязательно высшее образование... Высшее образование... Лиля его скоро получит. А почему я не могу? Я же училась куда лучше ее!..
За моей спиной кто-то всхлипнул.
Я обернулась и увидела Цымбалючку. Она съежилась в кресле: локти на коленях, лицо спрятано в ладонях. Места по правую от нее сторону и по левую пусты...
Она клялась, что «ничего такого» за мужем не замечала, но ей не верили. Как можно было не заметить мешок пряжи, ведь это целое состояние! Откуда оно могло появиться у мужа? Она должна была остановить мужа, удержать, спасти, чего бы ей это ни стоило. А теперь вот раскаивается.
Смотрю на нее и вспоминаю, как она хихикала, когда кто-нибудь подносил к ее лицу палец. «Дурносмех»...
Не жалко мне ее, нисколько не жалко!.. А что было бы с фабрикой, если бы Цымбалюков было много?!
Грузчика Цымбалюка судили люди не с дипломами юристов, а свои, фабричные, с которыми он многие годы встречался почти каждый день, обедал в одной столовой, приходил в этот клуб на собрания и концерты.
Теперь он стал для них чужим.
— Прошу, дайте мне еще время! Я докажу, что смогу стать человеком...
— Скоро на пенсию выйдешь, а все человеком не стал?
— Не знаю, как получилось, — жалко оправдывался он, подтягивая сползавшие брюки. — Захотел газировки попить, вижу — початки... Ничего не соображал, пьяный был...
— Интересно, пить ему захотелось на втором этаже, там есть автомат с газировкой, зачем же его понесло на пятый этаж, к ткачам? — возмущались люди.
Я спросила, привстав:
— Если вы действительно были так пьяны, почему же в мешок не натолкали камней? А то ведь пряжу!
Цымбалюк сверкнул в меня глазами, как выстрелил.
Я посмотрела на сутулившегося паренька в матросской тельняшке и спросила, удивляясь своему зазвеневшему голосу:
— А ты как мог?! Неужели не понимал, к чему это может привести! Жить еще по-настоящему не начал, а уже вором сделался!
Он, казалось, не слышал и не понимал меня, твердил одно и то же, как испорченная пластинка:
— Я не хотел... Не думал... Не хотел... Не думал...
Собрание решило строго и дружно: передать материал об этой краже в ОБХСС...
Но почему я чувствую себя виноватой перед «Морячком»? На фабрике столько хороших, честных людей. Цымбалюк — это исключение. Почему же именно это исключение оказалось на пути человека, только что вступившего в самостоятельную жизнь?
Я уходила из клуба, опустив голову, словно боялась встретиться взглядом с мальчишкой, который мечтал о море и носил постоянно матросскую тельняшку...
Глава десятая
ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ!
У нас с папой сложились странные отношения: мы избегали друг друга, а если доводилось встретиться, то коротко здоровались и разбегались в разные стороны, не поднимая глаз. И только перед моим уходом в декретный отпуск он передал через Грушу, чтобы я зашла к нему после смены: разговор есть.
Я боялась этого разговора. Знаю, отец будет говорить со мной словами тети Иры: он нашпигован ими, как ветчинная колбаса шпиком.
Свое тетя Ира мне уже сказала:
— Вот так скромница! Тайком к нему бегала?
— Все это зависело от обстоятельств, — невозмутимо ответила я. — Пожалуй, это было точно так, как у вас с папой в свое время...
Она открыла рот, но сказать мне еще что-то не решилась.
На папу я обижаться не имею права. Виновата. То, что я сделала...
С Ольгуней состоялся примерно такой разговор.
— Не понимаю, как я могла решиться на такое, стыдно перед нашими фабричными, они, конечно, осуждают меня: «нагуляла», «распутная»...
— Распутная не нагуляет! А вроде тебя матерями становятся!
А какие слова я услышу от папы? Надо быть готовой и к такому: «Ты меня, дочь, опозорила перед людьми! Я приводил тебя на фабрику, когда ты еще в школе не училась... Хорошо, что мать не дожила до такого позора!»
Ничего, перенесу и это...
После смены я поднялась к отцу. Он стоял возле своей шлихтовальной машины, как мукомол возле мельницы, в специально сшитой тетей Ирой легкой шапочке, прятавшей волосы, в глухом фартуке сероватого цвета.
Машина занимает все помещение от давно не мытого широкого окна до распахнутого входа. Не знаю, почему она представляется мне мельницей, когда нет ни малейшего намека на нее? Разве что основная пряжа, высушенная в этой машине после пропитки шлихтой, широкой полосой, ниточка к ниточке, как бы ссыпается вниз, а там наматывается на ткацкий навой.
На другом конце машины корыто со шлихтой — специальным составом из глицерина, хлорамина, сопаля. Пряжа, пройдя через эту пропитку, становится крепче, эластичней, уменьшается обрывность на станках.
— Папа!
Он уже заметил меня и стал вытирать о фартук руки, водил ими от груди до колен, словно разглаживал себя.
— Домой поедем вместе, — сказал он, дотянувшись к моему уху: из-за машинного грохота ничего нельзя было услышать. — Саня, слышишь?
— Да, папа.
Он снова потянулся ко мне:
— Ты меня дождись обязательно! А поговорим...
На фабричном дворе отец отвел меня в сторонку и заговорил, как бы проглатывая слова:
— Прости ты меня за все, Саня, прости, дитя родное... Слышу от людей, сам вижу, а... затемнение нашло. Перееду к тебе пока. Одной, знать, страшно, а? А со мной все повеселее будет. Уж ты прости дурака старого!
Сама я никогда бы не позвала его, не думала, что пойдет, что тетя Ира отпустит.
Они явились ко мне в воскресенье утром.
Отец принес раскладушку, обмотанную бельевой веревкой, тетя Ира — узел.
— Принимай, дочка, жильца! — Папа освободил раскладушку от пут и, оглядевшись, выбрал ей место: поставил впритык к моему изголовью. — Понадоблюсь, руку протянешь, а я тут, рядышком.
У меня защемило сердце.
Тетя Ира деловито развернула сверток, там оказалось папино белье, рабочий пиджак, выстиранный и выутюженный, и коричневая шерстяная рубашка. Эту рубашку я подарила ему в день рождения.
— А что постелить, найдешь, — сказала тетя Ира. Я никак не могла понять: сердится она или не сердится, у нее всегда были надутые губы. — У тебя две подушки, поделишься с отцом. И одеялко лишнее.
Она знает, что у меня есть.
Отец украдкой подмигнул мне, и я поняла, что победа над женой ему нелегко досталась.
Я пригласила их к столу: давно мы не завтракали вместе. Тетя Ира увидела на подоконнике сушеную воблу (мне ее весовщица наша дала), повертела в руках, понюхала.
— Отдай мне ее, Санюшка-голубушка, я с пивком... А ты соленым не очень-то увлекайся, обопьешься, это вредно, нагрузка на сердце. — Она сунула воблу в сетку, положила туда веревку от раскладушки и сказала повеселевшим голосом: — Дочку бы тебе, помощницу. С мальчишками одна канитель, одежды не напасешься, все на них горит. А для девчонки я уже имя подобрала. Анжеликой назовем.
Отец выскочил из-за стола, с чувством выплюнул в пепельницу недожеванную колбасу.
— Ну да, Анжелика! А короля мы где возьмем? Мало русских имен, что ли, чтоб еще у иностранцев одалживать! Возьми Сывороткиных, мальчонку Ричардом назвали. А дети у него, значит, Ричардовичами будут? Язык поломаешь, пока выговоришь. Кто за такое спасибо скажет? Мальчика можно Кириллом или Степаном, девочку Евдокией назовем.
— Степаном или Кириллом — ладно, — согласилась тетя Ира, — а Дунькой — ни за что! Знала я одну Дуньку Раздобуткину, пивом торговала и сама как бочка.
Мне смешно: какие они забавные!..
Отцу на старой раскладушке спать неудобно: лежит он в ней как в гамаке, накроется одеялом, и не видно, что человек на ней лежит. Но уходить от меня он не хочет.
— Поговорили раз, и хватит. Если мешаю, скажи прямо.
Он мне не мешал, еще никогда папа не был мне так нужен.
А Ромка?.. У него даже участия ко мне нет! Мы с ним как-то случайно оказались в одном автобусе. Он не мог меня не видеть, делал вид, будто что-то интересное рассматривал за окнами. Меня это, пожалуй, вполне устраивало. Если я раньше не блистала красотой, то теперь тем более: лицо разукрасилось пятнами, на лбу желтые отметины.
Ольгуня говорит:
— Ты сейчас такая красивая, Саша, томная. Глаза как у мадонны...
Действительно, мадонна...
А папа сказал:
— Ты сейчас точь-в-точь как твоя мать, когда она тобой ходила. Какая-то болваниха посоветовала ей лицо травой намазать, не знаю, как она называется: разломишь стебелек, а там как молоко. Поверила дуре и намазалась, и чуть вся кожа с лица не слезла с мясом вместе. Смотри и ты не вздумай! Само пройдет, наладится.
Мы с ним часто разговариваем по ночам, когда не спится.
Он тихонько зовет меня:
— Сань, не спишь?
— Нет, пап...
— И ко мне что-то сон не идет, а завтра на работе носом клевать буду.
— Сосчитай до тысячи — уснешь.
— А чего ж ты не считаешь?
— Не помогает.
— А другим советуешь… А помнишь, Саня, как мы с тобой под машинку обкорнались и нам от Валентины влетело, помнишь или забыла?
— Помню, папа.
В тот день мама занялась стиркой, а нас отправила в кино, чтобы мы «не мешались под ногами».
Времени до начала фильма оставалось еще много, и папа надумал зайти побриться. В парикмахерской у нас было много знакомых: мама работала дамским мастером. Какая она была ловкая и внимательная! Помню, соберется очередь, женщины волнуются, толпятся, а мама выйдет к ним с шуточками и приветливо так скажет: «А ну, девушки, кто на свидание спешит? Сейчас мы эту очередь в два счета раскидаем!»
Ей не надо было объяснять, какую прическу сделать. Посадит клиентку в кресло, поприжимает ей ладонями волосы со всех сторон, прищурится, сожмет губы, потом скажет: «Сидите и не беспокойтесь, сейчас мы сделаем то, что вам к лицу. Если вы, конечно, мне доверяете!»
Ей доверяли. Поэтому к ней всегда была очередь. Я любила войти потихоньку в зал и смотреть, как мама работает...
Папу в мужском зале тогда встретили такими словами:
— Смотри ты, как Серегина дочка подросла! Сколько ей уже?
— Шесть. На тот год в школу пойдет. Она у меня уже читает и пишет. Баловница моя! — Отец прижимал мою голову к своему животу. — Валентина стирку затеяла, нас в кино выпроводила, мешаем.
Отца постригли, побрили, освежили одеколоном. Потом он спрашивает меня:
— Саня, а давай-ка мы и тебя обновим? Стрижку-макатышку сделаем? Голове легче дышаться будет, и волосы гуще пойдут. Давай?
А мне что? Соглашаюсь.
Помню, отца, как больного перед операцией, окружили люди в белых халатах, уговаривали:
— Кто ж такую большую девочку под машинку стрижет?
Отец мне подмигивает:
— Валентина велела. Чтоб перед школой волосы погуще выросли.
Я поддакнула.
— Ну, раз Валентина велела, матери видней.
До сих пор помню, как в моих волосах ножницы лязгали и машинка стрекотала. Я подскакивала на кресле, то смеялась — щекотно было, то вскрикивала — за волос дернуло.
Мама увидела меня, за голову схватилась, а мы с папой заскочили в ванную, заперлись там на крючок и сидели до тех пор, пока мама не устала «разносить» нас...
— А помнишь, Саня, как мы тебя первый раз в цирк повели?
И это я помнила. В цирке я тогда настрадалась! Вцепилась в мамин рукав, словно тонула. Мне казалось, что гимнасты непременно оборвутся с трапеций, что лошадь сбросит и растопчет наездника, а когда в шар под куполом забрались два мотоциклиста и устроили там бешеные гонки, я сунула голову в мамины колени и так просидела, дрожа, до конца представления.
Сколько же лет мне тогда было? Четыре или пять? Но я хорошо помню тот день. И еще помню, что папа сказал: «Забудь про цирк навечно, ишь позеленела вся от страха. Трусиха. Больше тебе туда ходу не будет!»
Да где там «не будет»!
Уговорила я родителей, и в следующее воскресенье мы снова отправились в цирк. И ладони у меня от волнения потели, и от страха замирала, но даже глаза на этот раз не закрыла, хотя мамину руку терзала, как и раньше...
— Валентина любила цирк, — вздохнул отец. — Да, жизнь не остановишь, дочка. От Ираиды я хотел было вырваться, так ведь она мертвой хваткой. Подкаблучником меня сделала. Но она молодец, хозяйственная, хотя и скуповата. Другой человек деньги легко тратит, а она каждую копейку от сердца отрывает... Я во многом виноват перед тобой, Саня, во многом, но ты уж прости, не будем про старое вспоминать. И не бойся никого, в обиду не дам и с того мерзавца шкуру спущу.
— Не надо о нем, папа.
— Не буду, не буду, раз не хочешь. Я только предупредил, чтоб ты ничего не боялась, всякие волнения тебе сейчас во вред.
Я пообещала не волноваться, а сама думала: «Если бы Ромка хоть на минутку заглянул! Что же с ним такое творится? Думает, потребую, чтоб женился? Ничего я не стану требовать, ничего...»
В больницу меня отвез отец на такси. У гастронома остановил машину, сбегал за шоколадом: «Возьмешь с собой, силы тебе понадобятся».
Прощаясь с отцом, я заплакала, боялась того, что предстоит.
Отец тоже всхлипнул. Мне надо идти, а он не отпускает, обнял, сунулся в шею мокрым лицом, будто искал у меня защиты, не оторвать его.
После мне рассказывали, что он всю ночь просидел в приемном покое. Сначала его уговаривали уехать домой: его помощь-де не потребуется ни при каких обстоятельствах, даже исключительных, потом просто выгоняли. Но отец стоял на своем: «Пока не узнаю, что с дочкой, никакая сила меня отсюда не выметет! На руках вынесете, я окно выбью, а влезу, так что лучше не связывайтесь со мной, не трожьте!»
Таким отца я не знала...
У меня родился мальчик, мальчишечка. Сыночек мой черненький, горластый, я его по голосу узнаю. Няня шутит: «Он у тебя певцом будет, басовитый мужичок!»
Какое это счастье — держать на руках своего ребенка! Прижмешь к груди и чувствуешь, как через его тепленькое тельце в тебя вливается радость. Все былые беды не беды уже, о них можно рассказывать только с улыбкой.
Я назвала сына Сережей в честь папы, порадую старика.
Сын тянул молоко жадно, с присвистом, с причмокиванием, наслаждался. Чадушка моя, мужичок ненаглядный, жизнь моя! Я сейчас богаче всех на свете. И счастливей...
Груша передала мне розы «от всех наших баб». Всем молодым мамашам приносили цветы, но розы были только у меня.
В палате говорили о мужьях, о любви, о том, чей муж кого хотел — мальчика или девочку, выглядывали из окон — молодые отцы вытоптали под окнами полянку.
Заваливали нас передачами. То, что не принимали «законно», передавалось «контрабандой». Мы выбрасывали из окна веревку, как леску в реку, внизу ее привязывали к пакету или сетке, а мы выуживали.
Я боялась расспросов. Часто думала о Ромке, в больницу я не ждала его. Не надеялась, что придет. Да и нужен ли он мне такой, ненадежный?!.
Но когда меня выписали из больницы и я следом за медсестрой, которая несла Сережу, вышла в приемный покой, мне показалось, будто среди ожидающих мелькнуло Ромкино лицо. И сразу ноги мои отяжелели, не оторвать их от пола, кажется.
Но это был не Ромка. Мне просто хотелось, чтоб он был. Меня ждали папа и тетя Ира.
Отец бросился к медсестре, обнял ее, прослезился, сунул что-то в верхний кармашек халата, взял внука на руки, взял осторожно, бережно, повернулся ко мне.
— Спасибо, дочка, от отцовского сердца спасибо, что Сергеем назвала. Думал, что род Ниловых кончился, а видишь, вон он, еще один Сергей Нилов на свете есть! Ничего, вырастим... Поздравляю, поздравляю, дочка!
Тетя Ира обняла меня и, поддерживая, повела к выходу.
— Ну вот, Санюшка-голубушка, все и обошлось. Хорошо обошлось. Ты не забудь, что я за внучонком смотреть буду. Кончится твой декрет... Своего-то у меня нет... А теперь есть Сережка, хватит нам одного в семье. Миленький парнишка такой, сладенький, я заглядывала... Ты мне рублей тридцать дашь в месяц, и хватит. Няньки чужие знаешь как дерут? Еще и корми их вдобавок. А я по-родственному. Мне и тридцатки хватит, обойдусь.
Я засмеялась. Тетя Ира верна себе.
— Ну вот ты и повеселела, Санюшка-голубушка, а то прямо смотреть на тебя жалко было. Уж как мое сердце по тебе изболелось, ты не представляешь. Осторожненько, смотри под ноги...
Ветер не выпускал нас на улицу, швырялся оранжевыми листьями.
Нас ждало такси. Шофер ходил вокруг машины и ногой бил по колесам: пробовал их надежность. Увидел нас, предупредительно открыл дверцу.
Папа велел тете Ире сесть рядом с шофером, передал ей ребенка, наказал:
— Смотри не дави его, держи полегче! — Потом вернулся ко мне, взял под руку. — Давай постоим. Отдышись, дочка, спешить нам некуда, ребеночек в тепле, транспорт под рукой, постоим... Ветрюган какой поднялся, а? Насквозь продувает, будто на тебе не пальто, а накомарник какой. — Он подвел меня к стене, стараясь собой защитить от ветра. — Не замерзла, Саня? Тут не только человек, листья сплошь в ознобе. Гляди, какие они хилые стали! Повыжала осень из них все соки, пожелтели, точно малокровные. А ведь живут! Отмирать кому охота? Вот и цепляются за веточки своими корешками-ручишками, воюют с ветром. И будут воевать, пока совсем из сил не выбьются. И человек вот так. Кого хочешь спроси: жил он в покое да безмятежности хоть год какой? До школы разве что... Отдохнула, Саня? А теперь к машине, не спеши только, не спеши, милая...
Мы въехали в распахнутые ворота. Нашу машину окружили люди, почти у всех в руках цветы. Да это же наши, фабричные! Тут и Ольгуня, и Валерия Ивановна, и Груша. И даже Цымбалючка пришла. Теперь она называет себя соломенной вдовой. Рядом с ней стояла голубая детская коляска, из которой выглядывал плюшевый медвежонок с голубым бантом на шее.
Я представила, как женщины советовались и спорили, что лучше всего купить для меня, для моего маленького. Я даже не подозревала, сколько друзей у меня.
Дома у меня не повернуться, тесно, шумно. Но Сереже этот шум не мешал, он даже и не шевельнулся, когда Ольгуня достала его из одеяльца и переложила в кроватку. Эту деревянную кроватку с манежем папе вручили наши соседи: «Ваш подрастет, еще кому дадите». В этой кроватке не один младенец из нашего дома вырос.
Одно меня беспокоило: чем стану угощать гостей?
Но волновалась я напрасно. На столе появилась «скатерть-самобранка»: тут были и уже открытые две банки шпрот, и нарезанные колбаса и сыр. А кто-то ухитрился принести горячую картошку, ее поставили на стол прямо в кастрюле, сняли крышку, и задымился парок.
Папа критически оглядел стол и скомандовал тете Ире:
— Ну-ка, жена, теперь ты развернись: все, что есть в печи, на стол мечи!
Я засмеялась радостно, облегченно: хорошо-то как!
Когда все, хоть и с трудом, уместились за стол и тетя Ира принесла пироги, папа взял меня под локоть, шепнул:
— Выйди-ка, Саня, на минутку. Этот... твой... от самой больницы нас сопровождает. На лестнице торчит. Может, впустим?
— Нет!
Отец легонько погладил мое плечо.
— А ты не горячись, Саня, не горячись, мало ли чего в жизни бывает? Отец он все же твоему ребеночку.
— Какой он отец?
— Ничего, дочка, ничего... Выйди все ж. А там решай сама, тебе видней. Выйди, человек ждет!
Он повел меня к двери.
Ромка сидел на лестничной площадке, курил. Рядом с ним стоял самокат с красными колесами. Он скорее почувствовал, чем увидел, как дверь открылась, неловко вскочил, споткнулся о самокат, бросил под ноги горящую папиросу, наступил на нее, растирая, и улыбнулся с закрытым ртом.
Я не могла заставить себя улыбнуться ему в ответ, не смогла шагнуть навстречу: поняла вдруг отчетливо, что не люблю его больше, хотя сама еще не верю в это. Я копалась в своем сердце, как в пустом кошельке, зная, что ничего там нет, и все же на что-то надеясь.
Но когда Ромка поднес к лицу правую руку, призвал на помощь нашу детскую игру, я заложила руки за спину и крепко сцепила там пальцы. Никогда я так прямо и независимо не смотрела Ромке в лицо.
Он все понял.
Я стояла на лестнице до тех пор, пока не стихли его шаги, не хлопнула внизу дверь. И странно: я почувствовала облегчение.
А меня уже звали, без меня не могли обойтись:
— Са-ша-а!..
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





