ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна


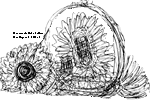
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:
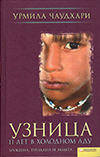
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Соколова Наталья 1961

ЧЕТВЕРКА
Ирина Глебовна, в прошлом неоднократный чемпион Союза по академической гребле, рослая, располневшая, с пересыпанной сединой короткой стрижкой и удивительно легкой походкой, считалась чуть ли не самым строгим тренером на всем Левобережье. За глаза ее непочтительно называли «Ерш колючий», хотя вряд ли нашелся бы смельчак, который решился это повторить в ее присутствии. Если человек не мог присесть семьдесят пять раз подряд, то для Ирины Глебовны он вообще не существовал; если мог — что же, это был сырой материал, над которым, возможно, стоило работать...
Но Борис, два Коли и Сережа покорили суровое сердце Ирины Глебовны еще в тот сезон, когда впервые появились на Стрелке. Школьники с круглыми, бритыми под ноль головами, чем-то неуловимо похожие друг на друга, смешные, милые, старательные, они одинаково серьезно и добросовестно смазывали уключины тавотом, бегали по двадцать раз вокруг здания станции, гребли на плоту, работали с гантелями, провожали Ирину Глебовну по кривой улочке в гору, неся по двое ее богатырский рюкзак и часто сменяясь.
Четверка отлично «скаталась». Через три года ребята хорошо прошли на открытии сезона, заняли приличное место в Ленинграде на центральных соревнованиях общества «Труд» и в сентябре получили на квалификационных первый разряд. Теперь они были уже очень разные. У Бориса, талантливого загребного с замечательным природным чувством ритма, пробивались на верхней губе темные усики; Коля Длинный был на голову выше Коли Маленького; а Сережка, скромный первый номер, худенький и длинноносый, отрастил себе роскошный огненно-рыжий чуб, который то и дело падал ему на лицо.
Гребля греблей, но есть на свете и другие дела. На следующий год один из четырех кончал техникум и защищал дипломный проект, другого завод послал в пионерлагерь, старшим вожатым, третий готовился поступать в институт. В то лето только Сережка, мотая рыжим чубом, сиротливо бродил по берегу, поучал новичков, болтался на спасательной лодке, еле-еле шевеля веслами.
Ирина Глебовна встретила на улице Бориса, капитана команды.
— Занимаешься?
— Угу.
— А приседаешь по уграм?
— Приседаю, Ирина Глебовна, как же!
— Смотри. Рыхлый стал. — И сообщила не без самодовольства: — Сережу я подсадила временно в команду девочек, на восьмерку. Пускай пока с ними тренируется. А то он совсем было собрался, — презрительная усмешка тронула ее строгие губы, — к Банадзе, в легкую атлетику.
— Да уж вы держите, Ирина Глебовна, на вас вся надежда! А то Сережка, он ведь жутко увлекающийся, запишется со скуки в городошники, потом не оторвешь. Жалко, сами понимаете, такая четверка мировая...
В январе, сдав первую сессию и немного отдышавшись, Борис решил, что пора уже «скликать всех на верх». Он позвонил Сережке, которого давно потерял из виду.
— Ну, вот что, Рыжик, тренироваться начинаем в бассейне Водников, среда, пятница и...
Сережка что-то мямлил.
— Что ты там бормочешь?
— Я ведь учусь в Техническом училище.
— Ну и учись себе! Тренировки вечером.
— Не могу. Понимаешь, я записался в Университет культуры. И потом я хочу самостоятельно изучать язык.
— Какой еще язык? — заорал не своим голосом возмущенный Борис.
— Иностранный.
В бассейн пришли трое — Сережа не пришел.
После бассейна провожали все вместе Ирину Глебовну. Коля Маленький шагал с ней рядом, повесив на одно плечо ее плотно набитый рюкзак (который почему-то стал теперь и легче и меньше) и беседуя о тонкостях протяжки весла. Им вслед по крутой улочке поднимались в гору Коля Длинный и Борис.
— А Сережка самостоятельно изучает язык, — мрачно сообщил Борис. — Иностранный.
— Язык, говоришь? — переспросил Коля Длинный лениво. — Совсем другое... А ты и не знал? Эх, капитан!
— Ну, что еще? — нахмурился самолюбивый Борис. — Говори.
— Ирина Глебовна решила прошлым летом удержать Сережку?
— Ну, решила.
— Сунула его к девушкам?
— Ну, сунула!
— Привет! Он и женился на восьмом номере. А теперь этот восьмой номер велит домой рано возвращаться.
— Вот так удержала! — Борис свистнул. — Ах, Ерш колючий!
И тут же они оба испуганно пригнулись, как провинившиеся детишки, заговорили шепотом, потому что Ирина Глебовна случайно оглянулась через плечо.
Да, дела!
Конечно, с одной стороны, ну его к черту, этого Сережку, раз он такой слабодушный, а с другой стороны, все-таки жалко: четверка уж очень «скатанная». Мировая четверка!
ПЕРВОЕ УТРО
Я в этом городе впервые. До заводского района надо ехать минут сорок в трамвайчике с длинными скамейками, которые идут вдоль вагона, под окнами, а не поперек, как у нас в Москве. По случаю раннего часа вагон набит до отказа, едут к смене рабочие Карбюраторного, завода «Машиностроитель», текстильного комбината. Стоит неразборчивый гул общего шумного говора, всплывают только отдельные фразы:
— А я говорю — плохо используются механизмы. А он...
— На зимнее не годится драп «Метро», толстоват. Только на демисезон идет.
— Лучше бы поставить на этот вал червячную передачу...
— А зачем ты танцевала вчера до полтретьего? Вот теперь никак ресницы и не разлепишь, рыженькая.
— Потише с руками-то. У вас на формовке ребят мало, так вы избаловались. А у нас, слава боту, мальчики вежливые.
— Мишку ставить на правый край все равно, что меня в балерины. У него же удара нет.
— Строители, те добились, у них по восемь сеток и близко от города. А наши...
— Как ушел старик на пенсию, на его рабочем месте теперь четыре молодца крутятся. И брачок, случается, дают.
— Со старшими все хорошо было, а этот как садится за уроки — мама, живот болит!
— Деталь стоит шесть копеек, отгрузили зачем-то самолетом, она, голубушка, пошла по двадцать три копейки, а виноватых, заметь, нету...
— Правда, цветной и силы хорошие, а по сюжету ничего особенного. Не то, что «Сорок первый».
Первое утро в незнакомом городе... Я еще не доехала до цели своей командировки — завода «Машиностроитель». Еще в бюро пропусков мне не выписали временный пропуск (который потом, в день отъезда, с каким-то щемящим чувством сдаешь обратно), еще моя ладонь не легла на металлический поручень у проходной, согретый руками идущих впереди. А я уже что-то узнала о жизни района, о жизни заводских людей, пока ехала бок о бок с ними минут сорок в тесном трамвайчике с длинными продольными скамейками и слушала разноголосый шум, ловила обрывки чужих разговоров:
— А я говорю — плохо используются механизмы. А он...
ДИКАРЬ
Те, кто любят Москву, интересуются ее уличной жизнью, знают — если идти вниз по Петровке, мимо магазина «Рыболов-спортсмен» (где на тротуаре постоянно толкутся с таинственным видом крепкие, коренастые дядьки, перешептываются, и можно услышать великолепные, непонятные простым смертным слова: «мормышки», «снасточка для живца», «груз фильдо»), мимо катка «Динамо» (пробегают длинноногие девочки-подростки в брюках и свитерах, поблескивают подернутые изморозью узкие лезвия коньков), мимо переулка со старинным названием «Петровские линии» (там испокон веку живут голуби, сытые, непуганые и тяжелые на подъем, которые нехотя взлетают под самым носом у медленно едущей машины), а потом повернуть направо по Кузнецкому, то придешь к магазину подписных изданий. Под его широкой аркой неизменно стоит тесно сбитая кучка книголюбов; у одного, у другого то из-под локтя, то из-за пазухи выглядывает цветной корешок.
Есть среди них истинные рыцари книги, а есть и небескорыстные ее поклонники. Здесь обменивают и, что греха таить, продают еще иногда из-под полы томики собраний сочинений, подписные квитанции. Выпуск книг растет, но спрос растет еще быстрее — вот и возникает накипь спекуляции.
На Кузнецкий сворачивает рослый, статный пешеход — снег скрипит под его белыми бурками, отделанными коричневой кожей. На нем рыжая, телячьего меха короткая куртка, пыжиковая ушанка, через плечо — на ремне «Киев», по бедру хлопает полевая сумка. Он то и дело щелкает аппаратом, сразу видно — не москвич. На него оборачиваются девушки — его молодое лицо привлекательно своей свежестью, здоровым зимним румянцем.
— Приезжий? — спрашивает его крайний из кучки книголюбов. У него простуженный голос, озябший, нахохленный вид, воротник пальто поднят и подвязан толстым шарфом.
— Сибиряк.
— Интересуетесь книгами?
— Да, хотелось бы, знаете, приобрести... — Сибиряк уважительно смотрит сверху вниз на своего щуплого собеседника. — Строим мы новый город. Когда-нибудь там будут замечательные книжные магазины! Мрамором их облицуем, малахитом отделаем. А пока, — он улыбается и разводит руками, — пока у нас по главной улице, случается, медведи гуляют. — И признается, вздыхая. — Хотелось бы очень Генриха Майна.
— Генрих? Чепуха. Это не дефицитное издание, — говорит человечек, обвязанный шарфом, с видом превосходства, — издание без ограничений. Вот Томас Манн — другое дело. Подписку лимитировали.
— Но «Зрелость Генриха Четвертого» отличный роман. Я вообще очень интересуюсь этой эпохой, — наивно объясняет сибиряк. — Да и другие его произведения...
Человечек не слушает. Он крутит нижнюю пуговицу на рыжей телячьей куртке нового знакомого и доверительно понижает голос:
— Советую приобрести «Тысячу и одну ночь». Подписывались с бою! Всегда можно ликвидировать за приличную сумму. Любители очень гоняются. Роскошное издание. Кремовый с золотом переплет...
— Не в переплете счастье. — Приезжий щелкает застежкой планшета, достает заветный список. — Я бы купил Ключевского «Русскую историю». Геолог Фартучный просил Анатоля Франса. И еще Герцена в восьми томах. Наш доктор Марина Дмитриевна мечтает о Твардовском...
— На всех прилавках ваш Ключевский лежит, — человечек презрительно кривит лицо, — вы совершенно не в курсе... Хотите роман Дефо «Моль Флендерс»? Там есть такие местечки... Или «Золотой осел» с цветными иллюстрациями. Иллюстрации, знаете ли, тоже...
Приезжий хмурится. Он вежливо, но решительно высвобождает свою пуговицу из цепких пальцев случайного собеседника, поправляет планшет.
— Простите. Тороплюсь.
И вот его пушистая, присыпанная снежком шапка-ушанка уже исчезает за дверью магазина.
Человечек с шарфом остается один, прозябший, разочарованный, обманутый в своих ожиданиях. Он с высокомерным видом поджимает губы и раздраженно хрипит:
— Провинция! Культуры ни на грош. Серость... Разговаривай вот с таким. Только время тратить. Тьфу! — И изрекает окончательный приговор: — Дикарь, что с него возьмешь?
СВЯЗОЧКА
Всегда немного грустно встречать праздник вдали от дома, от семьи.
Так случилось, что Первое мая пришлось мне встречать на небольшом полустанке в одном из северных районов нашей родины.
На восемь часов утра был назначен митинг, потом — концерт самодеятельности. На самом полустанке, правда, народу жило немного, но должны были собраться лесорубы с трех ближайших участков, геодезисты, которые прокладывали невдалеке трассу новой ветки, работники совхоза имени Калинина.
— Дальних подвезут, ближние сами придут, — сказал мне начальник станции, когда в седьмом часу утра я поднялась на узкий дощатый перрон. — Калининцы, те всегда пешком. Через полчаса, вот увидите, первые покажутся...
Я пошла на ручей с полотенцем и зубной щеткой. Там села на белый, хорошо вымытый весенними ливнями валун и стала смотреть вдаль, туда, откуда должны были появиться первые калининцы.
И вот показались две черные точки. Земля в этом месте холмилась, плавно поднималась вверх, и долгое время мне были видны только головы идущих к станции людей, потом показались плечи, потом стали заметны детали — голубой платок женщины и кепка мужчины.
Шли они как-то странно — не рядом, не плечом к плечу, но на некотором расстоянии друг от друга. А в то же время чувствовалось, что идут они, соразмеряя шаг, применяясь друг к другу. Не каждый сам по себе — нет, идут дружно, как если бы держались за руки, идут вместе, в одном ритме. Почему же не рядом? И что их в таком случае объединяет, что удерживает на одном расстоянии, какая связочка?
Вот что-то поднялось из-за холма и задрожало на ветру: флажок? бант? — да, повязанный на детской головенке, — между двумя взрослыми шла маленькая девочка, в праздничном ярком платье, с белым бантом в волосах, ухватившись за руки старших. Без нее картина была неполной и даже непонятной, не поддавалась расшифровке. Теперь все стало ясно: девочка с мотающимся на ветру бантом — это и была та связочка, которая объединяла взрослых.
Шли не двое — шли трое. Шла семья.
ФОТОГРАФИЯ
Фотограф пришел в цех, чтобы снять ударника коммунистического труда Пашу Кольцатого за работой.
— Что ж, снимайте! — Паша закрепил очередную деталь в оправке, пустил станок.
Но фотограф остался недоволен.
— А если вам встать во-он к тому станку, который у окна, а? Он лучше вписывается в кадр. И свет слева, как у меня задумано...
Паша был явно смущен.
— Но я ведь токарь. А это сверлильный многошпиндельный. Что мне делать возле сверлильного станка?
Однако не стал огорчать гостя, уступил.
Фотографа осенило вдохновение.
— Возьмите-ка в руки вот это, — он властным жестом показал на гаечный ключ. — И винтите... вертите хотя бы вон ту гайку... или как ее звать... позади станка.
— Но это работа слесаря-ремонтника. И потом ту гайку вообще отвертывают только во время капитального ремонта.
Фотограф ничего не хотел слушать. Паша, человек вежливый, стеснительный, преисполненный уважения к чужой работе, в конце концов покорился. Он долго стоял с дурацким видом у чужого станка, с чужим гаечным ключом в неловко отставленной руке, ковыряясь там, где совсем ковыряться не надо было, улыбаясь деревянной застывшей улыбкой.
Когда на завод пришла фотография, там хорошенько поиздевались — так, как только на заводе умеют. Но фотограф был далеко, он не слышал. Его, наверное, хвалили коллеги — интересный ракурс, смелая светотень.
ОТВЕТ
Дедушка и внук шли на лыжах по лесу.
В одном месте лыжня была попорчена, сильно затоптана — следы валенок, больших и поменьше, зияли в снегу глубокими синими провалами. Мальчик не без труда одолел этот участок пути.
Дедушка повернул обратно и несколько раз прошелся взад-вперед, исправляя лыжню.
— Мы ведь не будем возвращаться этой дорогой... Для чего ты это делаешь, дед?
Дедушка ответил:
— Для людей.
ПОЕДИНОК
Идет оперативка.
Начальник цеха Иван Тимофеевич по списку называет детали и получает короткие ответы:
— Залили.
— Не готовы стержни.
— Шесть штук сдали в ОТК.
— Сушка задерживает.
— Нет чертежей.
Иван Тимофеевич переспрашивает, соглашается в одном случае и возражает в другом, упрекает, торопит, советует, обещает чего-то добиться от директора завода, высмеивает, поддерживает, приказывает. Словом, по-хозяйски направляет ход разговора.
— Почему не формуешь опорное кольцо? — спрашивает Иван Тимофеевич у начальника четвертого участка Степанова, немолодого, расчетливого, осторожного, которого в цехе зовут «Степан — Большой Карман» (он любит запасать что надо и что не надо).
Степанов объясняет не очень внятно, что вот модель не завезли и пока что он будет лить стойки, а потом...
— Модель завезли с неделю назад, находится в цехе, — бесстрастно говорит Иван Тимофеевич, постукивая короткими пальцами по краю стола. — Дальше что?
— Бригадир мне докладывал, что вроде не могут найти, — мямлит Степанов.
Голос Ивана Тимофеевича становится ядовито-ласковым:
— Ай-ай, какой бригадир нехороший! А ты такой доверчивый у нас, Степанов, такой неопытный! Не пробовал бригадира проверить, а? Между прочим, от твоей каморки до склада моделей пройти так примерно шагов двадцать...
Степанов отлично знает, что модель находится в цехе. Но знает он и другое: идет последняя декада месяца, надо выполнить план. Какой ему смысл возиться с такой мелкой, трудоемкой деталью, как опорное кольцо? Заформовал две большие стойки по сорок тонн каждая — и готово, обеспечены сто пять процентов выполнения без особых забот и хлопот. Правда, стойки не нужны, он уже их дал достаточно, а нужны опорные кольца. Но Степанов сейчас одержим одной идеей: прийти к первому числу с хорошими показателями. Вот он и ловчит, выкручивается как умеет.
— Значит, так. — Иван Тимофеевич хлопает ладонью по столу. — Дашь тридцать пять колец, как запланировано. А стойки, хотите лейте, хотите нет, я все равно в счет этого месяца больше ни одной не приму. Предупреждаю, оформлять не позволю!
— Так нет же модели, Иван Ти...
— После оперативки приду к вам на участок, попробуем вместе поискать. Так и передай своему бригадиру.
Лицо Степанова вытягивается. Протестовать бесполезно: Иван Тимофеевич уже покончил с опорным кольцом, выкликает следующую деталь.
Оперативка идет своим чередом.
Сидят люди в темных спецовках за длинным официальным столом. Перебрасываются короткими деловыми фразами, не повышая голоса, почти без жестов.
— Отгружено...
— Заформовали шестьсот первую...
Все на первый взгляд очень буднично, очень обыкновенно. А ведь здесь кипят страсти, сталкиваются характеры. Каждый разговор Ивана Тимофеевича с начальником участка — поединок. Да, Степан — Большой Карман — опытный, сильный литейщик, но его надо заставить закрывать не те заказы, какие ему хочется, а те, которые нужны заводу, которых ждут в механических цехах. Другой начальник участка уж очень горяч: если дать ему волю, станет рисковать, наделает брака. Третий не умеет считать копейку — он один может съесть всю экономию, которую дадут другие.
Степанов на цыпочках выходит из комнаты. В коридоре ждет его бригадир. Сквозь матовое дверное стекло видно, как две тени оживленно жестикулируют, сближаются и отдаляются, шепчутся о чем-то. О чем? О пропавшей модели? Или, может быть, о том, что «хозяин» собирается нагрянуть к ним на участок? Бригадиры у Степанова такие же, как он сам — немолодые, себе на уме, прижимистые.
Оперативка кончилась.
Иван Тимофеевич спускается с антресолей вниз в цех. Цех живет своей горячей, шумной жизнью. Дымится земляной пол — только что залили крупную деталь. Грохочет выбивная решетка. По лицам работающих проплывают тени, как бывает в поле в облачный ветреный день: это под стеклянным потолком взад-вперед движутся краны, пронося свою тяжелую ношу.
Навстречу начальнику цеха как бы невзначай попадается Степанов. Стеснительно покашливая, говорит, что на участок идти незачем. Оказывается, модель нашлась. Оказывается, бригадир что-то перепутал. Так что не стоит Ивану Тимофеевичу беспокоиться.
Иван Тимофеевич хмурится.
— Низкий поклон, конечно, за заботу. Но все же я пойду, погляжу, что к чему, как там у вас с этими опорными кольцами.
Степанов заливается краской, сердито кричит тонким, срывающимся голосом:
— Не дам я до первого числа тридцать пять колец! Это нереально. Это утопизм...
— Как так не дашь? — грозно спрашивает Иван Тимофеевич. — Заставим, голубчик!
Эти двое работают вместе уже добрый десяток лет. Всю неделю спорят, ссорятся, препираются друг с другом. С субботы на воскресенье отправляются вдвоем на Большие озера, захватив всякую рыболовную снасть, залатанную надувную лодку, продукты и конечно же пол-литра «Столичной». А в понедельник опять спорят до хрипоты — и так до субботы.
Они идут по цеху — впереди короткий, крепкий, устойчивый Иван Тимофеевич, за ним длинный, понурый Степанов с мрачным лицом.
Он упрямо твердит свое:
— Не дам до первого тридцать пять колец! Хоть голову снимайте...
ЧАСЫ
Я встретила свою знакомую, которую не видела несколько лет.
— Как живешь, Варвара?
— Сын окончил вуз, работает. Посмотри, на первый самостоятельный заработок купил мне в подарок часы. Я была так тронута, не могу тебе передать...
На глазах у нее слезы.
— Мой Володя такой внимательный, такой чудесный мальчик! Не то, что другие.
Часы — «Звезда», кажется, самые дешевые, какие есть в продаже. На ее тонкой руке они кажутся грубоватыми.
Но как-никак сын подарил — это действительно приятно.
— Скажи, Варвара, а у тебя ведь были замечательные часы. Золотые, я помню. Шли секунда в секунду.
— Я их отдала Володе в день окончания института, — говорит она мимоходом. И возвращается к прежней теме: — У других дети избалованные, а вот мой...
НОВЫЕ АФИШИ
Женщина в клетчатом платке клеит на фанерный щит афиши.
Останавливаются два рослых парня в заляпанных краской комбинезонах.
У них в руках несколько бутылок молока, большой круг колбасы, буханка хлеба. Видно, работают где-то по соседству на строительстве и вот накупили еды на всю артель.
— Смотри, Сергей, гроссмейстер из Москвы... Дает сеанс одновременной игры на двадцати четырех досках. Надо бы сходить.
— Как же, сходишь! Это в пятницу. Ну, что за организаторы у нас в городе, — возмущается Сергей, придерживая подбородком колбасу. — Как будто не знают, что понедельник, среда, пятница — это дни вечерней учебы.
Замедляет ход порожнее такси, высовывается водитель:
— Мамаша, будь такая добренькая... С какого там числа гастроли цирка? Обещал своим ребятам обезьянок показать.
— Не хворый, — говорит женщина в клетчатом платке, макая кисть в ведро, — очень свободно можешь выйти и посмотреть.
Водитель не обижается, смеется:
— Надо понимать, мамаша, тридцать первое число, некогда прогуливаться. Не привезу сегодня план — не получу премиальные.
Проходят трое — солидные, в кожаных тяжелых пальто (несмотря на теплый день), в очках, с громоздкими портфелями.
— Хм... Что там за лекция? «Обзор средств механизации управленческого труда». Нашли кому поручить. Этот аспирант Левицкий методологически совершенно беспомощен.
— Не скажите, Борис Бернгардович. Зелен, конечно, но его статья относительно использования плоских карточек...
Две молодые мамы толкают перед собою две колясочки с двумя краснощекими младенцами. Останавливаются, загородив весь тротуар.
— Вот, пожалуйста, в гортеатре новая премьера — «Стряпуха». А мы еще с ним не видели «Ложь на длинных ногах». Ты не поверишь, Надя, когда он за мной ухаживал, ну просто стелился травкой — билеты, конфеты. А теперь...
— Нельзя потакать, — говорит хорошенькая Надя, сердито затыкая младенца соской. — Я своему говорю: «У меня диплом пропадает. Как хочешь, с осени иду на работу».
— А он?
— Скорчил кислую мину. «Я думал... после дочки... хорошо бы мальчика». Эгоист!
Идут школьники, размахивая портфелями, перекликаясь, как в лесу. Бойкий рыжий мальчишка останавливается у щита, задирает голову.
— «Любовь с первого взгляда»? Опять небось дети до шестнадцати лет не допускаются. Ох, надоели мне ихние фокусы! — Он сплевывает сквозь зубы. — Обезьянки? Ну, это для маленьких. Шахматы? Чепуха. Футбол лучше.
— Ну, что? — спрашивает женщина в клетчатом платке, оборачиваясь через плечо. — Сколько?
Рыжий мальчишка показывает на пальцах — четыре.
— Мог бы и пять получить, не хворый. — Женщина сворачивает и укладывает в мешок оставшиеся афиши, поднимает ведро. — Суп за окном. Смотри разогрей. Слышишь?
— Да, да. А компот где?
— Компот потом. — Она с хмурым видом поправляет на нем фуражку. — Смотри, суп разогрей. Не забудь.
— Да, да.
Они расходятся в разные стороны.
Некоторое время у щита пусто. Никого нет.
Идут он и она. Очень молоденькие. Он несет два портфеля в одной руке — свой побольше и ее поменьше. Ветер треплет ее длинные прямые волосы.
— Игорек, идет новая картина! Аргентинская. «Любовь с первого взгляда». Хочешь, пойдем в субботу?
— Не хочу. Что мне аргентинская любовь?
Они долго стоят у щита. Но не смотрят на новые афиши — смотрят друг на друга.
Отчего бы это, вы не знаете?
А ВЕДЬ ЭТО ХОРОШО
Идет пленум технико-экономического совета совнархоза.
Мне предстоит писать о нем отчет для газеты.
Какое слово чаще всего повторяется в речах выступающих? Слово — «новое». Новый тяжелый зубострогальный станок, новая пастеризационная установка для молокозаводов, новые микропровода таких диаметров, какие еще не освоены за рубежом, новая технология малораспускающихся капроновых чулок, новые режимы отжига фарфоровых изделий.
Да, это не слишком удобно для журналиста, что и говорить. Попробуйте, в самом деле, написать отчет, когда все время одно и то же слово путается... Приходится ломать себе голову, подыскивать слова-заменители — вместо «новые» писать «недавно освоенные», «никогда не производившиеся», «впервые примененные».
А все-таки, товарищи, как это хорошо — что так часто повторяется на совещании слово «новое».
ГОД ПРОШЕЛ...
Каждое лето Таньку отправляют погостить к бабушке — в колхоз имени Первого мая, в «глубинку».
В прошлом году ей было 13 лет. Она помогала бабушке на ферме, купала с дядей Семеном лошадей, лазила по деревьям не хуже белки, набивала карманы сарафана чем попало — от птичьих гнезд до тракторных деталей, заплывала «аж до самого омута», куда заплывают одни мальчишки, свистела как Соловей-Разбойник. У нее была дочерна загорелая спина с острыми, торчащими лопатками, разбитые локти и коленки, а в выгоревших льняных волосах не держались ни заколки, ни ленты.
В этом году ей 14 лет.
Приехала Таня к бабушке, выпила с дороги чаю. Сошла чинно с крылечка и вот гуляет по деревенской улице с половинкой подсолнуха в руках, поплевывая и бросая короткие взгляды по сторонам.
Подходит мальчик — примерно ее лет. «Здешний» мальчик. Таня на всякий случай сует подсолнух за пояс и становится в оборонительную позу.
— Ты, что ли, приезжала на тот год к Большинихе?
— Пускай я. А тебе чего?
— Ничего.
— А ничего — так отваливай.
Пауза.
— Это ты мне в том году дала по уху? Ты?
Танька молчит, думает. Присматривается к нему исподлобья.
— Не знаю. Мало ли я кому давала по уху. — Дергает плечом. — Может, и тебе... А это ты в меня на реке коровьими лепешками кидался?
— Ну, я.
— С откоса?
— С откоса.
— Значит, это я тебе дала по уху. Точно!
Пауза.
— Хочешь два яблока? Вот, — говорит мальчик. — Бери. Для тебя сорвал.
— У нас своих завались, — она небрежно берет яблоки. — Подумаешь.
— За мостом плотину поставили — ух, и разлилось... Пойдем покажу.
— Пойдем. Да ты ешь мои семечки, если хочешь, — она ломает напополам свой огрызок подсолнуха, — мне не жалко.
Они проходят мимо меня — «здешний» мальчик впереди, за ним Таня. На ней платье подлиннее, чем в прошлом году, отросшие косы туго заплетены, волосок к волоску, и на концах капроновые банты.
Все-таки год прошел — это надо понимать.
ТРИНАДЦАТЬ
Я пришла в Московский университет на кафедру анализа и статистики, чтобы мне помогли разобраться в одном специальном вопросе. Профессор, седой, любезный и знающий, сообщил мне нужные сведения и, между прочим, рассказал о судьбе своего любимого аспиранта — талантливого экономиста.
Вот этот рассказ:
— ...Да, несомненно одаренный человек! Мыслил широко, масштабно, имел вкус к общим проблемам. После защиты взял и поехал по собственному желанию председателем колхоза. Ну, думаю, наплачешься там.
Письма стали приходить соответственные: медвежий угол, хозяйство развалено, бездорожье, передвигаться можно только в резиновых сапогах; люди бегут в город, трудодень тощий; отпустил бороду, потому что бриться совершенно некогда, пришлите литературу о торфяных горшочках...
Через год приехал. Загорел, погрубел, а так вроде бы ничего. Поставили мы его доклад на кафедре.
«Тринадцать семей, — говорит, — вернулись из города в колхоз. Раньше я легко оперировал миллионами и миллиардами, но миллиарды-то я считал не мои, чужие. Ну, а эти тринадцать семей, — и стукнул загорелым кулаком по столу, — мои!»
Так вот и ушел от меня ученик. Сидит там третий год, болота осушает, в дела влез по уши.
Как вы думаете, вернется?
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
Первое августа.
По Садовому кольцу движется легковая машина — из окна высунулся горнист, трубит, трубит и все оглядывается через плечо.
Сзади медленно едет автобус, украшенный флагами.
— Мама, это едет кто-то очень главный, да? — громко спрашивает мальчик в белой панамке.
Автобус с флагами полон ребят. Следующий — тоже с флагами и тоже с ребятами. Сегодня третья смена отправляется в пионерские лагеря. И так — по всей стране.
Да, едет кто-то очень главный...
ОСОБЕННЫЙ ХАРАКТЕР
Я с интересом присматривалась к Виктору Андросову — секретарю парторганизации цеха шасси, энергичному, общительному, веселому человеку.
Мне нравилось, что на стыке двух смен он читал вслух газеты не в душной бытовке, как делали другие, но в сосновой рощице, что осталась невырубленной по соседству с временным дощатым зданием заводоуправления (под кирпичное постоянное здание только рыли котлован). Мне нравилось, что в обеденный перерыв он обязательно затевал со своими волейбол; аккуратно уложив на скамейку пиджак, забросив галстук на ветку молоденькой липки, сам выходил на площадку — и то необыкновенно мягко, как-то бархатно, словно на блюдечке, подавал пас соседу, то в прыжке, выдаваясь чуть ли не по грудь над сеткой, резко и коротко ударял по звенящему мячу загорелой, играющей буграми мускулов, сильной рукой.
В тот солнечный день вокруг площадки было людно: одни ждали своей очереди, чтобы играть, другие просто «болели». Едва я нашла себе местечко и уселась на самом краю длинной скамейки, как моего соседа, молодого револьверщика в шляпе-треуголке, сложенной из газетного листа, срочно позвали в цех. Он закатал рукав клетчатой ковбойки — от кисти до локтя руку сплошь покрывали часы, переданные ему на сохранение играющими. Пришлось мне принять от него вахту и тоже надеть себе на руку все эти часы, большие и поменьше, квадратные и круглые, громко и грозно тикающие, как одно большое растревоженное сердце.
Игра кончилась, побежденные ушли с площадки. Часы у меня бойко разбирали, тиканье становилось все тише, реже, как редеют капли идущего на убыль дождя; последним подошел за своими «Спортивными» Виктор Андросов. Он сел рядом, затягивая на сильной руке ремешок часов. Спросил меня:
— Вы на Тракторном побывали?
— Нет, не пришлось. Увлеклась Автозаводом, и вот третью неделю...
— Поезжайте. А то еще скажут, что вас автозаводцы не пустили, — засмеялся Андросов. — Наши два завода — оба молодые, послевоенной стройки. Можно считать, ровесники, однолетки. И, надо вам сказать, лютые соперники. Затевай или не затевай официальное соревнование, все равно люди следят, беспокоятся, прикидывают, отчего у них так, а у нас эдак. Есть на Карповке одна столовая, вроде как пограничная; встретятся там ребята наши и ихние, суп стынет, а им не до супа; такой начинается жаркий обмен опытом, тут тебе и критика и самокритика, все начистоту, есть чему поучиться.
— Советуете сходить в эту столовую?
Но он не принял шутки.
— Что ж, может, и стоит. Интересный разговор — это не обязательно разговор в конференц-зале, с регламентом и стенографистками.
На площадке опять шла игра. Судила грозная Варенька из ОТК, круглолицая и румяная. Наклеив на нос зеленый листочек (чтобы нос не обгорал), она строго покрикивала: «Захват мяча!», «Перенос рук!» — и пронзительно свистела в большой судейский свисток.
— Да, — сказал Андросов задумчиво, — совсем разные характеры у наших двух заводов. Вы не смейтесь — у всякого завода свой характер, свое выражение лица, своя неповторимая биография. — Я, кстати, и не думала смеяться. — Местные люди, местные власти сразу приняли ближе к сердцу Тракторный; трактор у себя на полях увидишь, а большегрузные машины уйдут на крупные стройки. Опекали больше Тракторный, жилось им легче, чем нам. — Он помолчал. — Но так ли это хорошо?
К моим ногам подкатился мяч, я бросила его обратно на площадку.
— Вы здесь с самого начала, Виктор Петрович?
— С первым экскаватором приехал на площадку. Копал, монтировал, кончал техникум, мастером был, потом технологом, теперь вот увлекся партработой. Надо вам сказать, наш Автозавод был здоровый нормальный ребенок, у него правильно зубки резались.
— Как это понимать?
— Как понимать? — Андросов прищурил глаза, заслонился от солнца рукой, разглядывая замысловатую комбинацию, которую разыгрывала у сетки одна из команд. — На Тракторном они заняли такую позицию: закончим весь монтаж, установим полностью оборудование, а затем нажмем кнопку, и дело пойдет. А у нас решили иначе. Еще ни одна коробка не была готова, как наши сказали: «Поедем в Москву, поищем заказ». Нашли простой немудрящий прицепик. Завели цех. Через этот временный цех мы и пропускали все кадры. Пришел сырой паренек — шесть месяцев в прицепном цеху, смотришь, разряд получил, определился. Сделаем приспособление, сделаем штамп — опробуем в прицепном.
— Но трудностей прибавилось?
— А как же! Строительство в разгаре, ни пройти, ни проехать, а тут план появился, надо его выполнять. Мы и проваливались крепенько, и друг друга за горло брали, и проклинали сообща этот прицепик. Зато не до жиру было, — он медленно согнул руку, вздулись, отвердели желваки мускулов, — жиру, как видите, ни капли!
Игра тем временем кончилась. Победители тут же рядом прыгали и визжали под струей шланга, который невозмутимо держал старик сторож. Дородный бухгалтер грозился, что прокатится верхом на тонком, как карандаш, ремесленничке: тот испортил последнюю подачу. Кругом хохотали — от души, раскатисто, по-богатырски, как умеют хохотать на заводе в свободную, легкую минуту, которая иной раз выдастся среди трудов и споров.
Я сказала Андросову, что обязательно побываю на Тракторном — хотя бы для сравнения. Особенно, раз он мне так горячо советует. Два молодых завода, два коллектива, два стиля работы — это интересно.
Андросов пожал плечами и как-то смущенно, немного по-детски усмехнулся.
— Возможно, на первый взгляд вам там больше понравится. Они богаче, клуб с колоннадой, многотиражка имеет не две, а четыре полосы. — Он честно перечислял преимущества Тракторного. — В цехах меньше недоделок, это верно. И все же...
Варенька закричала: «Чур, кто судил, тому набирать команду!» — и сняла с шеи свисток. Ее немедленно обступили, заслонили своими широкими плечами желающие играть.
— Помните, как это? — спросил у меня Андросов. — Воспитание телят холодом, один зоотехник применил. Вот и коллектив закаливать нужно. — Сказал и ударил кулаком по коленке, точно припечатал. — На городских активах голос Автозавода слышнее других, про нас говорят, что мы боевые, задиристые, настойчивые. «На бога надейся, а сам вырывай» — недавно второй секретарь обкома посоветовал нам изобразить этот девиз за неимением рыцарского щита на радиаторе машины. Что ж, мы умеем вырывать и почетные трудные заказы, и премиальные, если они честно заработаны, и литье, если нам его неаккуратно дают, и кровельное железо для подшефного колхоза. Иду, иду! — Его звали играть в волейбол. — Тракторные, те спокойнее, ровнее (скучнее — только это, смотрите, не пишите), привыкли, чтобы их всем обеспечивали. Там парни против наших вроде и в плечах поуже, и из себя пожиже.
Он снял свои забранные металлической решеткой часы, отдал их мне и заторопился на площадку. Но тут же вернулся и сказал вполголоса:
— Насчет парней... Может, это меня заводской патриотизм одолевает, как считаете? — И весело крикнул через плечо: — Иду, Варенька, не кипи!
...Да, интересный разговор — это не обязательно разговор в конференц-зале, с регламентом и стенографистками.
АЛЕНКА, МОЯ СОСЕДУШКА
Аленка видела на прогулке у какого-то мальчика лопатку, которая ей приглянулась.
Она пришла домой и стала с восторгом ее описывать:
— Ладошка у лопатки красненькая, а вот это место, — и показала руку от кисти до локтя, — покрашено синим.
Ее никто не учил, откуда же этому малому человеку известно, что орудие труда есть продолжение, дополнение человеческой руки, есть, по сути дела, замена этой руки? Ведь Аленка сказала именно это, только сказала на своем детском языке, то есть гораздо короче и выразительнее, чем говорим мы, взрослые.
Аленка просыпается утром. Полотенчико через плечо — и идет в ванную, еще заспанная, розовая, со слипшимися глазами, с примятой щечкой, шлепая маленькими стоптанными тапочками.
Сосед, лейтенант милиции, в коридоре натирает сапоги суконкой.
— Здравствуйте, дядя Володя!
Журналистка уже стучит, как дятел, на своей старой, хрипатой, как будто простуженной машинке.
— Здравствуйте, тетя Ната! Здравствуй, машиночка!
Когда нет срочной работы, машинка поступает в распоряжение Аленки. Но у этих журналистов так часто бывает срочная работа...
Петин дедушка чистит зубы.
— Здравствуйте, Петин дедушка!
На кухне широко открыты окна, летит пух от тополей, веет утренней свежестью. Видны крыши, крыши, а далеко, на самом краю города, две башенки Кремля (вечером это два красных уголька) и макушка ярко-золотого, ослепительно сверкающего большого купола. Раньше видны были четыре башенки (даже «четыре с половиной», как уверяла мама), но выстроили один новый дом, другой — и вот остались только две.
Аленка просит ее приподнять — просит, не глядя, того, кто случайно оказался рядом. И говорит серьезно, приветливо, обращаясь к городу и миру:
— Здравствуй, утро. Здравствуйте, люди!
Начинается день.
Шестиклассник Петя делает уроки.
Пока перо Пети быстро бегает по бумаге, Аленка мирно сидит рядом, дышит ему в плечо. Но как только он перестает писать, задумывается, — она разбойничьей цепкой лапкой смело хватает его за ухо.
— Гадкий мальчишка! Не делает уроки, бездельничает.
— Не мешай Пете, он думает, — говорит Петина мама. — Это не безделье, это тоже работа. И притом очень важная.
Тоже работа? Аленка удивлена, ненадолго затихает, положив подбородок на кулаки, наморщив лоб. И когда ее уводят спать, она все оглядывается назад, чтобы еще разок увидеть Петю за столом, еще разок посмотреть, как тот сидит и думает.
Вот и день прошел. Аленка сегодня опять узнала что-то новое. Узнала и запомнила: думать — это тоже работа. И притом очень важная.
Аленке читают вслух сказку. Золушка выпачкана в золе...
— В каком таком золе?
Аленка никогда не видела золы. Даже слова такого не слышала. Родилась и растет в квартире с газом.
— Тогда фея сказала... Знаешь, что такое фея?
— Не знаю.
— Ну, волшебница. Сама во что хочешь превращалась и всех превращала.
Аленка удовлетворенно кивает головой:
— Знаю. Как Кио. Я его видела в цирке.
Не понимает, зачем нужны лошади (на троллейбусе ведь быстрее), не знает, что такое карета, дворец, бал.
Мышка в мышеловке? Наша девочка очень удивлена.
— А разве к ним не приходили вот эти, которые спрашивают: «Мыши, крысы есть?» И дают расписаться...
Все не совпадает с ее опытом, с ее представлением о жизни.
Аленку укладывают спать. Она бунтует, пинает босой ножкой подушку — хочет смотреть телевизор.
— Тебе это совершенно не интересно, — говорит папа. — «Спутники» Пановой.
Аленка заливается слезами:
— Нет, мне интересно, интересно! Я тоже хочу смотреть, как наши спутники летят на Луну. Ишь вы какие!
ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ
Московское метро. Станция «Площадь Революции».
Направо вниз — к Киевскому радиусу — уходит эскалатор, который плотно набит людьми. Сегодня, в воскресенье, здесь царят лыжники. То тут, то там над головами колыхаются лыжи — увязанные вместе с палками, большие и маленькие, перекрытые мешочком или попросту небрежно наброшенной вязаной шапочкой. Сколько веселых, оживленных лиц, какой гул стоит — точно в улье, какими яркими пятнами выделяются нарядные свитера девушек и замысловатые куртки парней, пестроклетчатые шарфы, цветастые варежки...
А мне видится другая картина. Тот же эскалатор ползет вниз, только вроде бы медленнее и тяжелее, как будто сил у него меньше; так же торчат над толпой — только не лыжи — лопаты и тяпки, обмотанные тряпьем. Московское воскресенье военной поры, я, оказывается, тебя не забыла! Серые усталые лица, серые заношенные одежки, серая молчаливая череда женщин и ребятишек, не очень выспавшихся, не слишком сытых. А если и покажется мужская фигура, мелькнет в общем потоке седой полковник с колодкой орденов или молоденький солдат-казах, несущий перед собой загипсованную руку, как несут ребенка, — то все лица поворачиваются в одну сторону, все женщины, не сговариваясь, молча провожают взглядом пятно выцветшей гимнастерки.
«Мы и впредь будем последовательно бороться за мирное сосуществование, за полное разоружение, за всеобщую безопасность», — говорит Н. С. Хрущев.
Да будет так!
ДВЕРЬ
Дверь коммунальной квартиры. Обыкновенная дверь, с номером, выкрашенная коричневой краской, чуть-чуть подрагивающая, когда идет лифт. Много ли на ней можно прочитать?
Звонок. Надпись: «Общий. Садовскому зв. 1 раз. Озеровым-Щедровым зв. 2 раза. Апресяну 3 раза». Написано чернилами на листке в клеточку, приколотом к двери кнопками.
Еще звонок. «Звонить только Иванову». Надпись фундаментальная, на плексигласе. Слово «только» подчеркнуто.
Почтовые ящики. Их много. Большой синий облупившийся ящик семьи Озеровых-Щедровых. «Известия. Учительская газета. Новый мир. Московский комсомолец. Медицинский работник. Партийная жизнь. Вокруг света. Пионер. Пионерская правда». Да, это, видно, большая, очень большая семья. Почему-то я представляю себе, что все они люди веселые, шумные, общительные, активные, эти Озеровы-Щедровы — и даже тот юный Озеров-Щедров, который выписывает «Пионер» и «Пионерскую правду».
Почтовый ящик Апресяна. «Известия Академии наук, серия математическая. Математический сборник. Шахматы в СССР. Курьер ЮНЕСКО». И несколько неожиданное добавление: «Мурзилка». Ящик не заперт — просто гвоздь засунут в ушки.
Почтовый ящик Иванова. «Программа телевидения. Московская кинонеделя. Вечерняя Москва. Крокодил». Висит огромный, прямо-таки амбарный замок. Ящик свежепокрашенный, на нем ни царапинки.
Печатный плакат: «Граждане! Соблюдайте правила пользования и обращения с лифтом». На полях карандашом написано: «Зин! Тебя дома не застал. Этот чертов Иванов страшно ругался, зачем я позвонил по ошибке в его звонок. Зайду попозже. Толя».
Дверь коммунальной квартиры. Обыкновенная, ничем не примечательная дверь, покрашенная коричневой краской, похожая на великое множество дверей. Оказывается, кое-что на ней все-таки можно прочитать.
В ЗАВОДСКОМ ГОРОДЕ
Я в командировке на Горьковском автозаводе.
Дети здесь не видели, не знают лошади. И вдруг тонконогий рыжий жеребенок — его везут куда-то на грузовике.
Голосок с балкона:
— Мама, какой странный теленочек! А от него бывает молоко?
Стою у открытого окна. На песочной куче во дворе — детская игрушка, очевидно, кустарного происхождения. Деревянный ярко-желтый автомобиль-грузовик, расписанный народным орнаментом и крупными условными цветами, малиновыми и синими. Прежде старичок-умелец вырезывал, наверное, из дерева классическую русскую тройку или сани-розвальни с лошадкой и ямщиком. Но теперь другие времена, внуку ни к чему ямщик — и вот остался традиционный материал, привычная роспись, но появился новый, необычный для народной деревянной игрушки сюжет: грузовик.
— Ого, у Вадика новые ботинки! — кричат дети под самым моим окном. — Щипать Вадика! С обновкой его...
— Папка с премии купил, — солидно объясняет белобрысый веснушчатый Вадик, притопывая новыми ботинками. — В этом году такого месяца не было, чтобы папка без премиальных сидел.
Слушают его уважительно. Потому что понимают — Вадик не деньгами хвалится, хвалится работой.
Раз премиальные — значит, программа перевыполнена, значит, людям почет и уважение. В заводском городе это понимают даже дети, которые еще не научились как следует читать и писать.
ЦИКЛАМЕН
Студенты ехали на практику. Набились все в наше купе, рассуждали о завтрашнем дне металлургии, пели «Однажды в студеную зимнюю пору» на мотив «Сормовской лирической», дурачились. За Шадринском что-то примолкли, заскучали.
— Игры бы устроили, что ли, — сказала моя соседка, милая старушка, которая с огромным количеством чемоданов и баулов переезжала от сына-юриста к дочери-учительнице. — Хотите, у меня есть где-то с собой «флирт цветов», я, бывало, в барышнях увлекалась.
— «Флирт цветов», как славно! — захлопала в ладоши коротко стриженная энергичная Люся, «комсомольский вождь потока», как ее называли ребята. — А то того и гляди опять заговорим о красноломкости металла. Надо же наконец немного проветриться!
— Какова, собственно... м, технология этой игры? — спросил Игорь озабоченно, поправляя очки. — Значит, я должен выбрать подходящую фразу, передать карточку Люсе и назвать цветок... Попробую освоить.
Я заглянула через плечо Игоря, чтобы узнать, что написано на карточках. «Жасмин. Способны ли вы на роковую страсть?» «Цикламен. Очаровательная блондиночка! Вы как магнит». «Гелиотроп. Когда мы увидимся... по-настоящему?» Игорь только застенчиво ежился, перечитывая эти строки и явно не находя ничего подходящего.
— Ах, ты ничего не умеешь, — Люся взяла инициативу в свои руки. — «Резеда. Берегитесь, он скользкий человек и любит двусмысленности». Мимо! «Орхидея. Так женщины — это ваша страсть?» Фу, ерунда попадается. Наташа, поищи-ка ты.
Маленькая веселая Наташа свесила с верхней полки свои длинные косы.
— Игорек, держись, сейчас получишь признанье девичьей души. «Анютины глазки. Для вас карты и вино — это все». — Она посмотрела на Игоря и от души расхохоталась. — Да, явно не то. «Лилия. Вас, верно, привлекают ее деньги?» Гм. «Хризантема. Сердце и водка должны быть в монополии». Это как-то даже не совсем грамотно, по-моему... Да ну, ребята, скука, бросим эти цикламены.
Старушка грустно собрала карточки и перетянула их стершейся бархоткой.
— Да, что-то оно... к вашей жизни не очень подходит. А мы, я помню, смеялись с кузинами.
— Давайте лучше поговорим о красноломкости металла, — сказала Люся решительно. — Необходимо немного проветриться.
ПРОБА
— Вы задали мне вопрос, на который не так-то легко ответить...
Главный механик завода, хозяин всех станков и машин, тот, кому доверены ремонт и сохранение техники на много миллионов рублей, встает из-за своего массивного письменного стола и, тяжело, но бесшумно ступая по ковру, подходит к окну. Теперь я вижу только его круглую, с коротко остриженным ежиком, седоватую голову, низко посаженную, как будто втянутую в плечи, и широкую грузную спину. Окно большое, во всю стену — отсюда, с шестого этажа, хорошо виден завод, заготовительные цехи по левую руку (здесь так и говорят — «левая рука подвела» и еще — «левая рука знать не знает, что делает правая») и механические, сборочные по правую руку от центральной аллеи. Заиндевелые, точно седые переплеты эстакад четко рисуются на бледном зимнем небе, длинные ломкие сосульки, похожие на бороду деда-мороза, украшают карнизы корпусов, прямо вверх поднимаются в неподвижном морозном воздухе сизо-розово-белые дымы. Завод живет, дышит.
— Значит, так... — Главный механик поворачивается ко мне и деловито начинает рассказывать: — Чтобы сделать молоток, надо иметь кованую заготовку. Или, на худой конец, плиту толщиной в двадцать пять миллиметров. Я, как сейчас помню, делал из плиты... Сначала я ее отжег, чтоб материал легче поддавался обработке. Ну, попросту говоря, нагрел до красного каления и дал остыть. Потом я высверлил отверстия, так тесно, как только можно было — по контуру будущей заготовки. Стал ее отрубать. Как чем? Зубилом, конечно. Отвалилась! Бортики, ясно, вышли неровные, волнами, — обрубил я бугры возможно ниже, затем поработал напильником. Получилась у меня прямоугольная болванка квадратного сечения. Просверлил я два отверстия рядом, вырубил между ними перемычку — нужна ведь дырка под ручку. Распилил дырку на конус. Осталось еще спилить конус бойка. Ну, и обработка — снял фасочки, боек завалил. — Он искренне удивился моему невежеству: — Завалить — значит скруглить угол... Для красоты отшлифовал — помню, старательно, не жалея сил (энергии-то в пятнадцать лет много). Закалил. После калки зачистил на шкурке. И вот готов молоток, первая вещь, сделанная от начала до конца моими руками. Пришел мастер (седой, как я сейчас, он мне тогда казался ужасно старым) и поздравил — пляши, малый, сдал пробу на разряд. И, верите, такое у меня было чувство... такое чувство...
Лицо главного механика, смягчившееся было под действием воспоминаний, снова становится жестким, твердеет, в углах рта опять видны резкие морщины, точно проведенные рашпилем.
— Вот вам и ответ на вопрос — когда, в какой день я ощутил свое это самое... как вы выражаетесь, призвание... с чего началась моя судьба инженера.
Ежась, словно стесняясь тех высоких слов, что я ему навязала, главный механик снимает телефонную трубку. Не глядя на меня, озабоченно набирает номер. Дескать, товарищ корреспондент, поболтали о пустяках, о чувствах всяких, ну и хватит — людям пора работать.
НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
Как-то осенью приобрела моя приятельница Зоя Сергеевна халат.
Пришла домой, развернула покупку и видит — привешен кусочек картона. Напечатано: «Мы надеемся, что это платье вам будет нравиться и что вы им будете довольная. Прагодев — Прага».
Мило так написано, приветливо. По-человечески. И даже ошибки кажутся симпатичными, правда? Как будто до нас донесся живой голос, нетвердо, но старательно выговаривающий слова чужого языка.
Разве обязательно, чтобы при халате была такая карточка? Можно, наверное, и без нее...
Но как приятно это необязательное! Оно украшает жизнь, как нечаянная улыбка незнакомого вам прохожего.
Вчера я купила вязаную кофточку. Она стоит всего пятьдесят рублей, а кажется дорогой, у нее современный покрой, красивый, богатый цвет. Густой розовый — очень отрадный, свежий, насыщенный. Видно, люди со вкусом работают на трикотажной фабрике имени Дзержинского (г. Ивантеевка, Московской области).
А что написано на мятой бумажонке, пришитой к кофточке? «Артикул 1426... ГОСТ или ТУ 641552... ОТК... гр. отделки...»
Возможно, все это нужно было написать. И, конечно, кофточка не стала хуже оттого, что против таинственного словосочетания «гр. окраски» кто-то поставил штамп — пляшущими лиловыми буквами крупно — «ОБЫЧНА». Но почему-то цвет ее — густой розовый — показался мне не таким богатым и радующим, как в первую минуту.
ОСОБЫЕ ПРИЧИНЫ
По желобу сыплется черная земля. Бригадир включает механизм, стол формовочной машины начинает ходить вверх-вниз, встряхивая смесь, уплотняя ее.
Молодая работница, длинноногая, тонкая, с маленькой, туго повязанной темным платочком головой, вскакивает на самый верх опоки, пневматическая трамбовка, словно живая рыба, бьется в ее руках, как будто хочет вырваться на волю. Движения у работницы легкие, четкие, отточенные, со стороны кажется, что она не работает, а пляшет, приподнятая над цехом, вся подвижная, колеблющаяся, как язычок пламени на ветру.
— Лучшая бригада в цехе, между прочим, — сдержанно говорит тот, кто водит меня по заводу. — Николая Полуэктова...
О бригадире мне уже рассказывали. Он пришел на завод в последние дни войны — узкогрудый, рыжеватенький, малоприметный подросток. Формовал башни танков — их делали вручную. Время шло, цех все больше насыщался техникой, подросток незаметно, естественно перешел с ручной формовки на машинную. Завод теперь делал экскаваторы, мощные буровые, прокатные станы. Коля кончал — и не один раз — курсы технического обучения, проходил в цехе и другую великую школу — социалистического соревнования, поднимался по лестнице разрядов. «У Николки, у этого воробушка, оказывается, уже невеста намечается, — сказал начальник цеха как-то после оперативки. — По глазам вижу, скоро попросит ордер на отдельную комнату. Да, стареем мы». Николай поступил в техникум. Николая выбрали членом горкома комсомола. Николай обзавелся сыном. Его приняли в кандидаты партии. Кое-кто уже стал называть его Николаем Филипповичем. Шел тот повседневный рост, к которому мы, советские люди, привыкли, которого подчас и не замечаем, принимаем как нечто естественное, само собой разумеющееся...
Можно долго стоять вот так у машины, любуясь слаженной, уверенной работой людей. Бригадир и работница в темненькой косынке то и дело меняются местами, выручая друг друга, — то он перехватит из ее рук цепь крана и опояшет опоку, то она, гибко перегнувшись, лопатой подберет землю, просыпавшуюся у его ног.
— Работают как один человек, — говорю я моему спутнику. — Красиво работают.
— Ну, тут, положим, особые причины...
Что он хочет этим сказать?
Мой спутник, кряжистый медлительный человек с тяжеловатым, малоподвижным лицом — тоже бригадир. Он соревнуется с Николаем, часто остается позади и, видимо, относится к этому горячо, с сердцем.
— Моя бригада, положим, тоже не плохая, — разъясняет он неторопливо, обстоятельно, по-волжски окая, — не хочу охаивать. Но у Николая покрепче, чего уж. Если бы со мной, положим, моя жинка у стола работала, она б меня тоже с полсловечка понимала. Она у меня...
Да, действительно у Николая — «особые причины»!
ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ
Короткая запись в старом истрепанном блокноте — блокноте сорок второго года. Всего несколько строк.
«Постучала в дверь. Слышу детский голосок. Говорю:
— Открой, девочка. Или позови кого-нибудь из взрослых.
Девочка отвечает, приложившись губами к замочной скважине:
— Бабушка умерла. Мама на лесозаготовках. Тетя Зина в очереди за хлебом. Папа у нас пропал без вести. А я не могу дотянуться до замка».
НА КАТКЕ
Мало народу днем на катке.
Оно и неудивительно — каток закрывается в три часа, а первая смена в школах кончает занятия к двум. Как тут можно успеть? В шесть часов каток, правда, опять открывается, но тогда уже не пускают ребят моложе четырнадцати лет. Странные порядки! Это так же нелепо, как привычка нашего радиовещания давать передачи для школьников в утренние часы, то есть как раз тогда, когда школьники сидят за партами.
В раздевалке тихо, почти пустынно. Только в уголке сидят два студента — они сняли ботинки с коньками, а ноги в толстых шерстяных носках задрали на спинку соседней скамейки и повторяют в два голоса матанализ. Оба в одинаковых спортивных костюмах, только вязаные шапочки разные — синяя и белая. Но при ближайшем рассмотрении студент в белой шапочке оказывается девушкой — правда, рослой, по-юношески узкобедрой и по-мальчишески коротко стриженной, но хорошенькой. Она мимоходом смотрится в круглое зеркальце, которое прячет потом в карман брюк, и говорит строго:
— Вот что, Димка. Пятнадцать минут бегать, пятнадцать минут зубрить. И ни на что лишнее не отвлекаться. Все по часам! Нужно проявить силу воли. Ясно?
— Ясно, — отвечает Димка не слишком веселым голосом и читает: — «Проекция вихря на какое-нибудь направление, равно отнесенное к единице площади циркуляции векторного поля вдоль контура бесконечно малой площади, содержащей рассматриваемую точку и перпендикулярной к выбранному направлению...»
Выхожу на лед. На катке для фигуристов маленькая девочка, изящно округлив руки, деловито репетирует какие-то сложные движения, ветер играет ее короткой юбочкой с меховой опушкой. Рядом на снегу стоит мать, молодая, здоровая, цветущая женщина — как говорится, кровь с молоком. Но ей и в голову не приходит самой стать на коньки. Нет, она часами терпеливо топчется на обочине, наблюдая за девочкой и подавая ей команды. Одета она по-купечески добротно, на ней много всего — новая толстая шуба из блестящей цигейки, новый пуховый платок, новые громоздкие ботинки на меху. Через руку переброшено пальто девочки, из рукавов жалобно свисают рукавички, мотается капор — не очень удобно со всем этим добром, но зато вещи лучше сохраняются, не отдавать же их в гардероб.
Она бегает по всем четырем сторонам катка, толсто и тепло одетая, в негнущейся шубе, нагруженная вещами, с ярко раскрасневшимися щеками, и кричит:
— Ногу выше... Еще раз! Держи спину. Тебе что Вер-Иванна говорила? Делай восьмерку. Ну, что ты стала?
— Мамочка, я отдохну. Я просто так покатаюсь, можно? Там Феликс с нашего двора. И еще ребята...
— Ни в коем случае. Какой еще Феликс? Делай восьмерку, я тебе приказываю! Ну, Таточка, ну, милочка, постарайся ради мамочки, умоляю. Разве ты не хочешь быть чемпионкой? Поедешь за границу, оденешься во все заграничное...
Девочка вздыхает и, изящно округлив руки, начинает очередную восьмерку. А сама через плечо невзначай бросает взгляд на большой каток, туда, где катаются ребята с ее двора. Нормальные ребята, у которых нет белых ботинок со сверкающими коньками, но которым зато можно играть в салочки, дружить, горланить, кидаться снежками, приходить и уходить всем вместе веселой оравой.
Рядом с катком строится многоэтажный жилой дом. Оседлав балки, работают сварщики, прикрывая лица щитками. Весело сигналит большой кран, пронося свою увесистую ношу. На штабеля досок и кирпича, на кучи песка, прикрытые листами толя, ложатся редкие, крупные снежинки. В этом году февраль — добрый, легкий, пушистый, без колючих ветров, без гололедицы.
Сажусь на скамейку. Мой сосед — еще не старый, подтянутый человек. Я видела, он катается медленно, осторожно, но чувствуется, что когда-то был хорошим конькобежцем. Разговариваем о погоде, о жизни. Он — по специальности инженер-строитель, теперь пенсионер. Пенсию получает приличную, подлечил ранение сорок первого года, много читает. Да, заслуженный отдых — приятная вещь, ничего не скажешь.
За нашей спиной кран на строительстве весело подает голос, звоном предупреждая людей — берегитесь, несу груз! Мой собеседник прислушивается, не поворачивая головы, продолжая очищать от снега конек.
— Тоскливо бывает, если по правде сказать. Хочется иной раз... Ну, подышать воздухом стройки, поругаться, знаете, с прорабом, — он застенчиво поводит плечами и объясняет, словно извиняясь: — Уж очень я привык!
Утром на катке не крутят пластинки — катаемся под лекцию о полупроводниках, под последние известия. «Коопосылторгу Центросоюза поручено отправить в двухнедельный срок совхозрыбкоопам Кустанайской, Северо-Казахстанской, Кокчетавской, Акмолинской, Павлодарской...» Время от времени кто-то простуженный и не вовремя разбуженный гулко кашляет в микрофон и говорит угрожающе: «За несданные в гардероб вещи администрация не отвечает. Товарищ, проверь, не потерял ли ты номерок. В случае утери номерка верхняя одежда не выдается впредь до полного выяснения личности». Нервные люди вздрагивают и начинают испуганно шарить по карманам, звеня мелочью и ключами. А неумолимое радио продолжает: «Категорически воспрещается кататься в нетрезвом виде. Наносить друг другу оскорбления, а также побои. Выламывать доски ограды...» Этот текст в сочетании с замогильным голосом заметно снижает настроение катающихся, а я меланхолически раздумываю о том, что богатая фантазия человека, составившего эти правила, достойна лучшего применения.
Что ж, пора уходить! Раздевалка все такая же тихая — с уснувшей теткой в окошечке, проката, с расщепленными измочаленными досками пола, по которым столько пар коньков уже прошагало за эту зиму, с уютными, дышащими жаром батареями. Та же пара — он и она, шапочка синяя и шапочка белая. Но что такое? Боюсь, что на этот раз высшей математике не повезло. Учебник Романовского закрыт, лежит в сторонке, конспекты тоже. Сидят рядом, он держит ее за руку, а она... поверьте, ничего в ней нет сейчас юношеского, мальчишеского. Молчат. Вторглось непредвиденное, непредусмотренное. Похоже, что они начисто забыли и о рядах Фурье, и о теории поля, и о теореме Остроградского, и о множестве других важнейших вещей. А как же режим, мои дорогие? Пятнадцать минут на то, пятнадцать минут на это — и никаких отвлечений?
Стараясь их не потревожить, осторожно шагаю на коньках по измочаленному полу. И уже у самого гардероба испуганно хватаюсь за карман — а не потеряла ли я в самом деле этот чертов номер? Сиди тогда «впредь до полного выяснения личности».
КОРАЛЛОВАЯ СЕРЕЖКА
Чтобы познакомиться с кузнецом первого класса Виктором Щербаковым, захожу к нему домой. Оказывается, он еще не вернулся с завода. Разговариваю с матерью. Узнаю, что Виктору двадцать четыре года, что он член комитета комсомола, депутат районного совета, что два года подряд держит первое место в соревновании на лучшего рабочего своей профессии, вот получил недавно эти две комнаты (раньше они жили в Фибролитовом поселке, в неважном домишке), собирается покупать машину.
На стене — грамоты дочери, школьницы, за бег и прыжки в длину.
— Навесила тут свои бумажки Женя, — говорит Антонина Степановна притворно-небрежно, — а если бы моего старика покойного грамоты повесить, то вышла бы полная стена. Заметный был на заводе человек.
Она собирает на стол и как бы между прочим рассказывает мне длинную историю, как у нее затерялась одна коралловая сережка, старинная, еще бабушкина. Дело было несколько лет назад, она тогда еще не вышла на пенсию, а работала стерженщицей — и, кажется, ничего работала, вроде не обижались на нее. Как на грех, аккурат в тот день пришел фотограф и так ее и заснял — с одной сережкой. Этот снимок был сначала помещен в «Автозаводце», а затем с него перерисовали портрет на полотне, для клуба. И что стоило бы художнику подмалевать вторую сережку, так нет, так и висел портрет всю зиму при одной, она все ходила и думала: хоть бы уж сняли, что ли...
История о затерявшейся сережке, не бог весть какая интересная, рассказывается не так просто, но с умыслом. Чтобы я не подумала, что у Виктора мать какая-нибудь не такая, хуже людей. Чтобы мне было ясно, что семья — коренная заводская, хорошо знакома с трудовой славой, и Виктор не с неба взялся, но вышел в семью, в родню. Яблоко от яблони недалеко падает.
МОСКОВСКИЙ ДВОРИК
Пригревало весеннее солнце. На асфальте московского дворика гоняли мяч ребятишки из ближних домов. Они сложили в кучу портфели и ранцы, отметили границы воображаемых футбольных ворот брошенными прямо на землю куртками.
— Сережка! Чевой-то твоего брата маленького не видно? Заболел, что ли?
— Да нет, — махнул рукой Сережка, «вратарь», в кепке, одетой козырьком назад, и в форменной школьной гимнастерке без ремня. — Они его взяли и отдали, — он помялся немного, — в кино.
— Билетерщицей? — спросил щербатый мальчишка, у которого как раз менялись зубы и который умел артистически плевать сквозь образовавшийся пробел. — Это шикарно!
— Балда! В кино, сниматься, — мрачно буркнул Сережка.
— Тоже ничего себе. За это хорошо платят. И потом — слава, — сказал худенький очкастый «правый край», который все знал и обо всем имел собственное мнение. — И в школу не надо ходить... Ах, да, он же еще дошколенок.
Сережка нахмурился.
— Много вы понимаете. — Он дома мог дать брату подзатыльник, но перед чужими считал своим долгом стоять за него горой. — Вас бы туда, в это самое кино.
— Ну, что там может быть? Не бьют, уроков не задают.
— Ему косы отрастили, вот что... Да, да. Он за девочку снимается. Два месяца растили, пока снимать стало можно. Так он теперь с косами и есть.
Ребята переглянулись, ужас положения дошел до них вполне. Мальчишка — и с косами!
— Да, — сказал тот, который все знал и обо всем имел собственное мнение, — уж лучше бы били.
— Упал он, нос расквасил, — продолжал Сережка, — так три съемочных дня пропали. Мама санки забрала, с тех самых пор не дает ему дыхнуть. Никуда не отпускает.
— А если взять ножницы и того... остричь косы?
— Так ведь у них план, — сказал Сережка невесело, — а план срывать нельзя.
Все согласились, что это так — план срывать нельзя.
КАНАЛ ГРИБОЕДОВА
Поднимаюсь по лестнице (Ленинград, канал Грибоедова, 24) и на втором этаже читаю: «Отличная квартира по взносу квартирной платы».
Ох, уж это мне канцелярское «по»... Как не идет оно к строю русского языка. Но бог с ней, с формой. А содержание?
Кто знает, может быть, и надо было бы вывешивать на дверях наших квартир памятные надписи: «Здесь живет ударник коммунистического труда, который не только сам отлично работает, но и обучает товарищей»; «Здесь живет замечательный писатель, книги которого помогают людям стать лучше»; «Здесь живет девушка, та самая, что с опасностью для жизни спасла ребенка из горящего дома».
Но какой дурак, хотела бы я знать, вздумал умиляться, что наши люди аккуратно оплачивают жировки?
ДИРЕКТОР
Завод был громадный, всесоюзно известный, а директор — маленький, лысоватый, невидный собой. Талантливый и масштабный организатор, после войны он наладил мирное производство, затем десять лет жизни положил на реконструкцию завода, а теперь с увлечением строил его вторую очередь. Полдня проводил на стройке, приходил домой, заляпанный цементным раствором, перемазанный глиной, веселый, голодный. Валился в чем есть на диван, перекрытый тщательно отглаженным холщовым чехлом, и шумно ругал завод, так что дребезжали слоники и вазочки над диваном, старательно расставленные Варварой Степановной.
— Проклятая скобяная лавка! Артель по производству металлолома... металлохлама... Когда уж я, наконец, от нее избавлюсь? Хочу ездить на рыбалку, пить водку и играть в двадцать одно. Пусть ищут другого идиота...
Варвара Степановна, в прошлом учительница русского языка и литературы, говорила взрослым детям, давно уже живущим отдельно, что чехлы на мебели приходится стирать чуть ли не через день и что «сам» невозможен, но что она все же не теряет надежды отучить его от дурных привычек.
Однажды завод не выполнил месячной программы. Начальник производства распорядился взять неисправные моторы, которые привезли на завод для ремонта, их кое-как починили, наскоро смазали, зачистили и оформили как новые, только что собранные. Это открылось — коммунисты завода не захотели мириться с очковтирательством. Осталась неясной роль директора в этом деле, но его сняли — если знал, то виноват, а если не знал, то тем более виноват. Продержали месяц-другой в резерве (от безделья он, по выражению Варвары Степановны, грыз мебель). Потом «понизили» — дали небольшой завод в старом уральском городке, третьей категории, с тесными клетушками-цехами, которые строил еще хозяин-бельгиец, и устаревшим оборудованием.
— Один поеду, — сказал он, хмурясь, не глядя на жену.
— Нет, уж куда иголка, туда и нитка...
На новом месте все пошло по-новому. Директор приходил домой рано, безропотно надевал в прихожей комнатные туфли, не шумел, не ругался. Маленький заводик с низкими потолками и подслеповатыми окнами, с тесовой оградой и дощатой проходной он никогда не называл «артелью» или «лавочкой», говорил сухо, строго официально — «завод». Когда звонили старые товарищи, отвечал коротко: «Все в порядке. Да, живу хорошо. Работать интересно».
Через два-три месяца, осмотревшись, директор перешел в наступление — заводу требовался новый литейный цех, новая большая кузница, необходимо было усилить крановое хозяйство, выстроить дополнительные склады, обновить внутризаводской транспорт. Из всего этого обширного списка преобразований пока что разрешили только одно — начать строить склад готовой продукции. Теперь вечером к директору на квартиру то и дело заходили люди, Варвара Степановна едва успевала выносить пепельницы, набитые окурками, начальника отдела снабжения директор называл на «ты» и по имени — «Расшибись, Никита, а достань»...
В глухую зимнюю ночь загорелись доски на постройке. Огонь грозил перекинуться на строящееся здание, уже выведенное под крышу. Директора разбудил телефонный звонок, он выскочил без шапки на улицу, остановил грузовик с прицепом и приказал повернуть в обратную сторону таким голосом, что бойкий шофер не посмел задать ни одного вопроса этому лысоватому, невидному человеку.
Варвара Степановна, закутанная в пуховый платок, до утра простояла у окошка, вглядываясь в неясные розовые отсветы над далеким заводом, стараясь угадать, что там происходит. В пять часов позвонил шофер Федя — все в порядке, отстояли склад. В седьмом часу хлопнула дверь, вошел «сам» — в испачканной и прожженной шубе, в валенках, насквозь пропитавшихся водой, чавкающих, в чужой засаленной кепчонке. Повалился как есть на диван, подминая хрустящий чехол, разваливая строй вышитых подушек.
— Будь проклята эта скобяная артель... Черт меня дернул тогда согласиться! Нет, кончено. Пусть поищут другого такого болвана, осла...
Впервые за много месяцев у Варвары Степановны отлегло от сердца.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ВЕРОЧКА
Верочке нет еще трех лет. Странно думать, что совсем недавно этого симпатичного товарища не было на свете. Так-таки совсем не было. А теперь она здесь, среди людей.
Смотрит на мир широко открытыми, синими-пресиними глазами, во все вмешивается, обо всем рассуждает. Проявляет свой характер, с которым нельзя не считаться. А ведь, если разобраться, она всего два раза в жизни видела, как выпал первый снег...
Папа и мама часто задают Верочке глупые вопросы:
— А как зовут твоего папу? А как зовут твою маму? А как зовут твоего братика?
Сами очень хорошо знают, а все-таки спрашивают. И еще подсказывают, как отвечать.
Верочка тянет скучно, лениво, разглядывая шов на своем переднике:
— Папу зовут Ко-ля... Маму зову О-оля...
И вдруг, встрепенувшись, весело и звонко добавляет:
— А машину зовут такси.
Вот это действительно интересно! Потому что свое, незаученное.
Верочку и дома и во дворе называют «Я сама».
Уж очень часто она повторяет эти два слова: «Я сама». Закрутить кран — сама. Надеть ботинки — сама. Открыть тяжелую дверь в парадном — сама.
Вбегает в лифт.
— Я сама! — И уже палец на кнопке. — Вам какой этаж?..
Мама сердится.
— Без тебя обойдутся.
— Не ограничивайте, мамаша! — строго говорит гражданин в велюровой шляпе и с большим желтым портфелем. — Девочка правильная, инициативная девочка. А без инициативы, если ты, скажем, по части материально-технического снабжения, так это что же получится? И людей подведешь, и себе живо строгача охлопочешь.
Он смотрит на Верочку с суровой нежностью и, кажется, если бы не мама, уже сейчас зачислил бы ее к себе в штат на должность какого-нибудь младшего агента по снабжению. И, я думаю, Верочка недолго оставалась бы младшим!
Живет Верочка в городе Свердловске. А баба Вера, мамина мама, живет в Москве и иногда звонит по телефону. Тогда Верочке прикладывают к маленькому розовому уху черную тяжелую трубку, где что-то большое сопит, ворочается и дышит.
— Скажи бабушке, что ты хочешь ее видеть, пусть скорее приезжает. Скажи бабушке, что ты очень соскучилась без нее. Слышишь, соскучи-лась...
Но Верочка не любит подсказок.
Она думает одну маленькую минутку. Потом вытягивает вперед руку ладошкой кверху, быстро сжимает и разжимает пальцы. И так несколько раз.
— Баба, ко мне! — кричит она весело и энергично в черную трубку.
Все-таки сказала по-своему. И как коротко сказала. А ведь все ясно, правда?
Как-то раз на бульваре мальчишка-первоклассник, плененный синими-пресиними бархатными глазами Верочки и той ловкостью, с которой она била других детей по пальцам лопаткой, спросил у своей старенькой бабушки:
— А сколько ей лет, как ты думаешь, бабушка?
— Ей лет еще нету, — ответила мудрая бабушка, — ей еще только года прибавляются. Два года, три года, четыре года. И потому она от всех зависимая. А как пойдут лета — пять лет, шесть лет — будет независимая.
Какая же она будет, когда ей пойдут не года, а лета, эта самостоятельная Верочка?
МОСКВА, ЦЕНТР
На доске из темно-красного мрамора написано: «В этом доме находилась приемная М. И. Калинина. 1919—1946». Если стать спиной к этой доске, прислониться к ней и смотреть прямо перед собой, то открывается удивительный вид на Кремль. С этой точки Кремль не так часто воспроизводится, его не так часто фотографируют и зарисовывают, как с других, более освоенных и привычных позиций. А жаль!
Кремль, который просматривается здесь в нешироком проеме между Манежем и жилым домом на противоположном углу, не такой строго-монументальный, величавый, как если смотреть на него с Красной площади, и не такой привольно раскинувшийся, радостно и празднично нарядный, каким он видится через реку с Софийской набережной. Нет, отсюда Кремль кажется проще и как-то интимнее, ближе к человеку. Но посмотрите, как все это прекрасно: зажатые на малом пространстве кремлевские здания, их фасады чистого, густого желтого тона и ярко-зеленые крыши, поднимающиеся ярусами в богатом и гармоничном беспорядке; опоясывающая все это кирпичная стена с четкими очертаниями раздвоенных зубцов, сизый дым голых веток Александровского сада на ее красновато-коричневом, приглушенном фоне, темный, уже осевший ноздреватый снег у подножия; крутой шатер сторожевой башни, и повсюду среди крыш — купола и куполки на стройных барабанах, посаженные легко, складно, как бывает хорошо посажена голова на крутую шею — купола и куполки то поодиночке, то группами, кучно, тесно — большие, поменьше и совсем мелкие, словно молодые луковки в пучке, — то серо-голубые, перекликающиеся с просторным северным небом, то скромно-золотые, тускловатые, без блеска, то ярко-золотые, победно торжествующие, вздымающиеся над всем ансамблем, венчающие его; выше только кресты, кресты, тонко прочерченные на фоне облаков, — и по соседству телевизионная антенна, похожая на них и такая непохожая, наша, сегодняшняя...
Не хочется уходить. У меня с собой пачка газет, которые я только что купила в киоске на углу площади Революции — французских, бельгийских, английских, американских. Щурясь от неяркого зимнего московского солнышка, просматриваю «Уоркер» из далекого Нью-Йорка, где на одной стороне листа бросаются в глаза мужественные, знакомые нам всем лица Тольятти и Тореза, а на другой — здоровается с Полем и Эсландой Робсон советский писатель Полевой. С грехом пополам разбираю корреспонденцию американских журналистов Маргэрит и Джона Питмэна, побывавших у нас в гостях.
Ах вот как! Оказывается, в Америке есть люди, которые всерьез тревожатся об участи несчастных московских голубей, этих пернатых «рабов коммунизма». Маргэрит и Джон Питмэн стараются их успокоить: «Нет почти ни одной улицы, где не было бы расчищенной от снега площадки размером 6x10 футов. За несколько копеек вы можете купить полную чашку крупы для голубей, которые хорошо изучили характер человека и устремляются вниз с карниза, как только покупатель подходит к продавщице-лоточнице. Жирные и самодовольные птицы... охотно едят из ваших рук, если вы им это позволяете».
Как раз наискосок от меня, у Манежа, голуби ходят в веревочном загончике, лоточник топчется у своей корзины с кормом, торчит плакатик «Голубей трогать воспрещается»... Надо сказать, что они совсем неплохо выглядят, эти пернатые «рабы коммунизма»!
Прежде чем сложить и спрятать газету, дочитываю последний абзац: «Возможно, сыграл свою роль выпитый перед этим стакан водки, но я готов поклясться, что слышал, как один из голубей сказал другому: «Эх, Мак, а мы ведь тоже за социализм».
Светлый прозрачный осенний день. Листва деревьев рыжая, красная, желтая — только лапы елей по-прежнему сумрачно зеленеют.
На Моховой, во дворе перед университетским зданием, у цоколя памятника Ломоносову, фотографируются студенты. Обняв друг друга за плечи, стоят трое: в центре красивый юноша с темно-шоколадным цветом лица, похожий на принца из восточной сказки, который весело что-то выкрикивает по-русски, коверкая слова; по сторонам наши парни, широкоплечие, светловолосые. Все трое меняются шапками, подставляют друг другу рожки, всячески дурачатся.
Студентка с «лейкой», которая их снимает, сердится:
— Нет, это невозможно!.. Вася... Ахмад... Вот брошу все сейчас и уйду!
— Катья, не надо, — просит «восточный принц», складывая руки и низко кланяясь. — Мне лучше двойка, чем ваша недовольность.
Катя, сама едва удерживаясь от смеха, щелкает затвором, крутит пуговку, опять щелкает.
— Нет, я сразу, прямо с ходу понял, что Ахмад стоящий парень, — говорит Вася. — Помнишь? Как раз Генка шел на свидание, прифуфырился, у меня взял ботинки, у тебя галстук. А Ахмад — он тогда еще ни словечка не знал по-нашему — подходит и протягивает ему свои лучшие брюки. Ох, Катя, это был эффект!
Съемка закончена. Катя убегает. Все трое садятся напротив меня на каменные ступени, закуривают от одной спички.
— С кем это ты поздоровался?
— Чех один, наш аспирант. Фамилия у него двойная: Досталь-Быстржина. Женился на Ирочке, ну, длинная такая, с почвоведения и агрохимии.
— Вот чудная фамилия...
— Ничего, его все зовут «Достал-быстро-жену». Еще бы: в сентябре приехал, в ноябре был женат!
На скамейке рядом со мной сидит девушка, на коленях у нее раскрытый томик. Неистребимая журналистская привычка — мне обязательно надо знать, что именно она читает. А, это «Аку-аку» Тура Хейердала, умная и добрая книга, которая так полюбилась москвичам.
Я заглядываю потихоньку через плечо девушки, и мне бросаются в глаза слова: «Мир стал настолько мал, что сегодня все мы — соседи. Друзья могут сегодня попасть друг к другу за несколько часов, а враги, к сожалению, и того быстрее...».
В погожий день хочется думать о друзьях, не хочется думать о врагах. Но, к сожалению, они о себе напоминают и в ненастье, и в вёдро, когда придется.
Девушка поднимает глаза от книги, смотрит вверх, выше шпилей Кремля и Исторического музея, куда-то в чистое небо, где протянулся нестираемой дорожкой отчетливый след, где бежит, удлиняясь, белая ровная нитка, как будто разматывается невидимый клубок, бежит, не обрываясь и не петляя, а на конце, словно осколок стекла, остро поблескивает малая точка: самолет Страны Советов.
Кремлевские рубиновые звезды, видимые издалека благодаря своим величавым размерам и помещенному внутри мощному источнику света, составляют единое целое с башнями. Расстояние между концами лучей кремлевской звезды, установленной на Водовзводной башне, равно 3 метрам, на Боровицкой — 3,2 метра, на Троицкой — 3,5 метра, на Никольской и Спасской башнях — 3,75 метра.
Прочность и жесткость конструкции кремлевских звезд рассчитана на максимальное давление ураганного ветра.
Несмотря на свой значительный вес (около тонны), кремлевские рубиновые звезды благодаря приданной им форме всегда устанавливаются лобовой Стороной против ветра.
Лампы накаливания в кремлевских звездах, созданные советскими инженерами, обладают высокой световой отдачей. Толщина стекол кремлевских звезд (6—8 миллиметров) делает их совершенно неуязвимыми для самого сильного града.
Свети мне всегда, кремлевская рубиновая звезда, веди меня, пока я мыслю, существую, дышу, пока не сомкнутся мои глаза, не перестанет биться сердце!
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





