ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
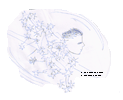
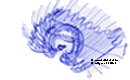

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Миронихина Любовь 1987
«Нынче откосились хорошо, грех жаловаться, — думала Агафья, сидя у печки одна в пустом доме. — Редкий год так бывает, весь июль простоял как один денечек».
Сенокос им нынче дали у Красного ручья. Говорят, тут баба после войны бросилась с обрыва, вот ее кровью и окрасился ручей, вода в нем и правда красна́. Мужика ее убили на войне, так она не захотела больше жить, так его любила. Агафье очень понравилась эта сказка, она уж и сама стала ее повторять, если кто из нездешних спрашивает, хотя знает, что на самом деле все было не так. Утонула тут баба после войны, верно, но не в ручье. В этом ручье цыпленок не зальется. А утонула выше по реке у самой деревни. Не вернулся ее мужик, затосковала она что-то, так шибко затосковала, что уже и не плакала. Вот как-то вышли они порыбачить двумя или тремя лодками. Бабы пока с сетками занялись, зашумели, а она стоит в лодке во весь рост, смотрит куда-то в сторону и молчит. Они только слышали — тихо вода плеснула, обернулись, а в лодке нет никого. Так и пошла она камнем на дно, и не нашли. Вот это было. А про этот ручей много всяких баек сказывали, когда она еще девчонкой была, таких страшных, что боялись здесь ходить. Будто шел солдат со службы, это еще при царе было. Захотелось ему воды напиться, наклонился, видит, в заводи лысина голая торчит. Он — бабах из ружья. Такой стон, вой пошел по лесу, что солдат шапку в руки и бежать от того места. Это он черта застрелил, и полилась из него ручьем кровь.
Старухи их ругали, не бегайте у ручья, шишки́ утащат. А дед Агафьин говорил, что ручей красный от того, что дно у него глинистое, а глина особой породы — яркая.
На сенокосе то и дело бегали к ручью умыться и попить холодной водички. Ручей, не обращая на них внимания, бегом бежал к реке, словно к долгожданному отдыху. У самого порога, поворковав напоследок от радости, вливался наконец в ее спокойное многоводье.
Косить было тяжело. Такого палючего солнца в июле она не помнила уже лет десять-пятнадцать. Комарье не пугалось даже жары, нахально лезло и жалило в лицо и шею. «Сунуться бы сейчас в речку с головой», — жаловался сын Коля, почерневший, с опавшим лицом. «Сунься!» — смеялась Агафья и кивала через плечо в ту сторону, куда уносился ручей. Коля вымученно улыбался. Река близко, но на берегу уже и мыслей нет о купании. Зной здесь тает, как пар на морозе. Всю жизнь Агафья прожила на этой реке и не знает, что такое купанье. Всегда оно бывает не по доброй воле и добром не кончается.
В первых числах августа жара схлынула в один день. Облегченно вздохнули, только облегчения хватило ненадолго. Заморосил дождик, а потом лил как ошалелый каждый день. Народ еще пуще застонал: господи боже, кто погоду ро́же? Опять не так, опять плохо. От этих нудных дождей потемнело и помрачнело все вокруг. Нахохлились на берегу дома в мокром поседевшем воздухе. Темная вода словно затяжелела и изредка лениво колыхалась и рябила мелкими волнами. Золотой песок побурел, как отсыревшая мука, не хрустел, не рассыпался под ногою, а как глина, четко отпечатывал следы. Деревня притихла и обезлюдела. Только ребятня по-прежнему табунами носилась по берегу. Вечером их посиневших приводили домой, и, разув у порога, выливали воду из сапог.
Агафья уже несколько дней притихшая ходила по дому, некуда была бежать, не на кого прикрикнуть. Сенокос прошел, и Агафья уже заскучала по радостной суете утренних сборов, по долгим вечерним чаепитиям, когда, все обговорив, напоследок дремотно перекидывались словами, томясь приятной сенокосной усталостью, от которой в сон уходили легко, как в прорубь проваливались.
И не погода томила Агафью. Даже были смутные мысли, что, может, она и хороша сейчас, такая погода. Она пришла из кухни в спальню, потом в большую комнату, поправила открытки за стеклом серванта, оглядела обои — эх, обои бы новые сюда, да где их взять? И чего хожу, чего ли хожу? — думала Агафья. Работы полны глаза, а руки опустила. Она давно ждала. Ждала, не стукнет ли дверь, выглядывала в окно, но берега из окон не было видно, только вылупился на нее пустыми глазами голый сруб через дорогу — Коля, сын, строится. А но правую сторону живет дочка, другая — на дальнем краю деревни. Троих детей собрала вокруг себя Агафья, да трое по городам, да двое младших при ней. Валя с дочкой приехала в отпуск, сидит днями у сестер. В доме так непривычно пусто, что Агафье даже не по себе.
Коля еще утром повез младшую Таню на остров. Пускай поработает вместо Ленки, а Ленка сейчас здесь нужна — рыбки половить. Давно бы уж должны вернуться. Остров — летнее пастбище километров в десяти по реке. Телята там круглый год. И свою корову Агафья отправила туда еще в мае, а теперь сидит без молока.
Пока грела воду и поила Мишку — бычка, так и не устерегла Ленку. Уже с порога услышала на кухне голоса, смех. Дом с приездом Ленки сразу наполнился людьми. Сначала сели пить чай свои — Коля с невесткой, старшие Валя и Катя, зять Осташев и внучка Наташа. Потом подошли молодая учительница, Ленкина подружка, Витька, сосед, только из армии вернулся. Опять ставили чайник и чаевничали до ночи. Дым от папирос плыл, как в нестопившейся бане.
Вечером Агафья затопила печку и стояла, прижавшись к ней спиной, слушая, как медленно греются кирпичи. Ей хотелось долго глядеть на Ленку, так стосковалась за два месяца, но Ленкины глаза, наткнувшись на ее жадную внимательность, смущенно убегали в сторону, и Агафья не стала смотреть подолгу.
Ленка сидела на столе и размахивала рукой с куском хлеба.
— Триста рублей в этом месяце заработала, — хвалилась, жуя, Ленка, — даже триста тридцать, привес был хороший.
— На что тебе такие деньги? — Валя невольно оглядела Ленкины выцветшие джинсы, мужскую рубашку в клетку.
— Как на что? — громко удивилась Ленка такой непонятливости. — На штрафы, конечно. Считай. Блесны по 15 рублей, десять штук — 150 рэ. Да тридцать рублей за сетку...
Агафья как услышала про сетку, даже ойкнула и руками всплеснула: «Сетку — сетку берегите пуще глаза, последняя!»
Разговоры пошли все рыбные, о сетях да о лодках. Агафья слушала, а сама все думала свою нудную больную думу. Додумав до конца, начинала сначала. «Все умом-то я хотела нынче большие дела сделать: ceнa накосить да рыбки половить, больше б ничего не надо. Для того и Ленку вызвала с острова. Главный теперь добытчик и бригадир у нас, как старик умер. Мужик-то был — гром! Напьется, идет, с того конца деревни чутко. А без рыбы не жили. Да и что это за жизнь. По мне, нет рыбы на столе, дак и есть нечего.
— Рыбки бы, рыбки надо ли половить! — вдруг вслух подумала Агафья и с просящей надеждой глянула на Ленку. — Я уж о себе не говорю, так рыбки хорошей хочется, как перед смертью. Прошлый год печку надо перекладывать, а печники из Усть-Цильмы денег не берут, дай им рыбы. К врачам ехать, надо хоть по кусочку взять. Вот, сама склала.
Агафья отошла на шаг и показала на печку, хоть и так все давно знали, что печка ее работа. Эта маленькая печка необычной конструкции на первый взгляд состояла только из плиты с духовкой и большой трубы, подпиравшей потолок. На самом деле уже не в кухне, а в спальне был большой придел с лестницей и печурками. Труба почему-то резко повалилась вбок, а плита, казалось, всеми силами старалась ее удержать, отчего тоже накренилась в противоположную сторону. У печки был очень растерянный и виноватый вид.
Ленка только и сказала «гм», а Валя промямлила:
— Ну что ж, топится и ладно.
Но Агафья вдруг обиделась и стукнула печку кулаком по длинной белой шее:
— Нет! Все равно научусь печку класть. Я уже додумалась, где не так сделала, надо было вот сюда повернуть, а я спрямила...
— Наш печник! — Ленка торжественно представила Агафью публике.
Агафья подыграла, скромненько потупив глаза, и кухня с готовностью грохнула смехом.
Часто Ленка с мамашей смешили семейство такими спектаклями, но им совсем невесело было в этот вечер. После чая Ленка побежала с подружками в клуб на танцы.
Возвращаясь поздно ночью от подружки, Ленка заметила, как нехорошо у нее на душе. Мамаша своей печкой напомнила прошлогодний сезон. Нынче август куда теплее. Ей тошно было вспоминать свои красные обмороженные руки, пальцы не гнулись и временами словно отваливались, а то вдруг начинали жечь и покалывать. Они выходили по два-три раза в сутки, делали по несколько сплавок, мерзли — и все зря. Две-три рыбешки — весь улов за сезон. Отобрали сеть, их с Колей оштрафовали. Было бы за что — так не обидно. Она готова ночевать в лодке и все что угодно. Тяжело другое — эти мамашины надежды на нее, они бревном легли на плечи. А ведь раньше она так любила рыбачить и ждала это время.
Ленка понуро плелась, втянув голову в воротник по самые уши и глубоко засунув руки в карманы фуфайки.
Соседка в темноте обозналась и приняла ее за своего сына-подростка.
— Ай, это ты, Лена? А издали — ну парень и парень. Богатой будешь, не узнала.
— А долго ждать-то богатства? — заинтересовалась Ленка.
— А что тебе богатство? Ты сама золото!
Ленка засмеялась и, тут же растеряв все свои горести, весело зашагала домой размашистой неженской походкой.
День уже с утра побежал незаметно и сгинул в мелких заботах и бессчетных чаепитиях. Рано, как встали, Агафья с Колей поехали за сеном, — последние остатки перевезти и заодно посмотреть омулевки, — может, чего попалось. Ленка с Наташей посидели за неубранным столом, послушали Валины с Катей тряпошные разговоры и, быстро соскучившись, надолго прилипли к стеклу и стали выглядывать Агафью с Колей. Когда мать надолго уходила из дому, Ленке становилось не по себе и начиналось нетерпеливое и раздражительное ожидание.
Агафья с мешком за спиной уже мелькнула за деревьями, но не пошла прямо к дому, а кругом — лесом и огородами.
— Несет ли мать чего ли, нет? — спрашивала, вглядываясь, Ленка, но лица Агафьи еще не видно было. — Если улыбается, значит, несет.
— Если улыбается, как раз не несет, — сердито возразила Наташка.
Нет, Агафья не улыбалась. Даже по походке было заметно, как она встревожена. И мешок у нее за спиной был явно не пустой. Пышные складки длинной юбки не мешали ей идти легко и стремительно.
— Сейчас огородами пойдет, — предвещала опытная Ленка.
Агафья вошла с заднего крыльца, бросила у печки мешок и, не в силах больше двигаться, тяжело и часто глотала воздух. Ленка с Наташей испуганно застыли рядом.
— Вот! — выдохнула Агафья и плавно повела вокруг себя рукой. — Обложили нас, как волков. Где это видано: запретить в речке рыбу ловить? Нам когда сказали, что так будет, мы не поверили. Ой! Сердце колотится. Боюсь, беда боюсь. Как лодку услышу, у меня и руки и ноги отымаются.
Прибежали на ее голос и засуетились Валя с Катей. Агафья села на подставленную табуретку и, наблюдая, как Ленка развязывает мешок и вытряхивает рыбу, помаленьку успокоилась. Рыба, негромко шлепнувшись на пол всем своим крепким стройным телом, вдруг осветила серебристым светом полутемную кухню. Парчовыми блестками мерцала ее чешуйчатая спина, а бархатное палевое брюшко можно было трогать только глазами, для рук оно было бы слишком нежным. Всем немножко стало жалко, что загубили для своей утробы такую красавицу.
— Сёмужка-сёмужка, — любуясь рыбкой, пела Агафья, а потом, кивнув на нее дочерям, с тихой скромностью объяснила: — Вот, какая ли щупленькая попалась.
— Средненькая, — согласилась Ленка, — килограммов на двенадцать.
— Пятнадцать, — подсчитала Агафья, не спуская с рыбы глаз. — Неси безмен. — И, легко вскочив с табуретки, уже от окна поманила Ленку к себе. Ленка мигом подцепила семгу за жабры и понесла к свету. Смешно выгнув шею и прищурившись на безмен, она убедилась, что язычок стоит точно на делении 15. Ленка даже взвыла от восторга.
Затеяли спор, как разрубить рыбу, чтобы снести половину Коле. Наташка даже хотела мерять линейкой, но Агафья молча отстранила всех и уверенно вонзила топор.
Вот и разрубили семужку и превратили красавицу в два куска мяса. Голову девки потащили Коле, а хвост мертвым обрубком бросили в таз. Без всякой радости смотрела Агафья на розовое семужье нутро и мурлыкала самой себе заунывную песню, в такт покачиваясь на табуретке. Спохватившись, быстро начистила картошки, бросила на сковородку несколько ломтиков рыбы, залила водой, а остальное засолила и спрятала в кладовке. В кладовке она наткнулась на миску прошлогодней морошки и решила захватить ее к обеду: куда уж беречь, новую замочили и еще надо съездить, пока не отошла. Это любимое кушанье подавали на стол только в праздник да гостям. А нынче и получился какой-никакой, а праздник — рыба пошла и Ленка приехала. Агафья плавала по кухне, колыхая широкими складками юбки, напевала старинную вечериночную песню. Ей хотелось с кем-нибудь поговорить, но девки усверкали к Коле и сгинули, как на дно пошли. Прибежала Наташка и, принюхиваясь, села у стола. Сковородка с рыбой забулькала, и из нее повалил белый пахучий пар. Агафья, сдвинув крышку, ласково приговаривала: «Кипели — кипели, плыть хотели». Повернувшись к столу, Агафья наступила на кота. Кот взревел, а она ему: «Не ходи разутый», — и ловко подбросила кота, поддев под брюхо ногой в пестром шерстяном чулке. Такие яркие носки и рукавицы Агафья вязала долгими зимами для детей и внуков и стопками складывала в кованый прабабкин сундук.
— Баб! А знаешь, чем пахнет эта рыба? — задумалась Наташка.
— Рыбой и пахнет.
— Ты когда-нибудь ела раков, вареных? — вспомнила Наташа.
Агафья закрестилась и даже плюнула от брезгливости:
— Какая ни безрыбица, а раков еще не ели. Может, и придется, но пока что бог миловал.
— Да что ты, баба, они такие вкусные. Я у той бабушки ела в Белоруссии.
Агафья не верила и сердито отмахивалась.
Наташка смело сунула ложку с моченой ягодой в рот, задохнулась и даже слезинку выронила. Агафья тоже попробовала: да, подкисла ягодка, как с уксусом, но тут же с удовольствием съела еще несколько ложек. Наташка смотрела на морошку, скривив страдальчески лицо, и про себя тихонько думала, что у той бабки ни за что бы не стали есть такую гадость. А у Агафьи из головы не шли раки, и жалко было сватов, это ж до чего надо дожить — раков есть, а писали, что живут хорошо, скотины много держат.
Они не стали ждать никого, так не терпелось попробовать рыбы. Когда вернулись дочки, Агафья уже вставала из-за стола, как после тяжелой работы, и смешила Наташку послеобеденными приговорками:
Спасибо всем, немного съел — каравашков семь,
Осталось фунтов семь, дак те я после съем.
В обед заскочил по дороге зять Осташев. Два зятя и сын — все были Колями, поэтому только сына и брата называли ласково Колей, а зятьев и мужей по фамилиям: Осташев, Чупров. Зять на ходу подцепил вилкой кусочек рыбы, но тут же получил выговор:
— Надо повы́тно есть, а не походя. Сядь, да поешь, а не хватай куски, — учила зятя Агафья.
— А что такое «повытно», баба? — Наташка никогда не пропускала непонятных слов.
— Выть — еда. Старухи так говорили — есть надо повытно, это как сядут все за стол, все вместе. — Агафья прилегла на детской кроватке в углу кухни и оттуда наблюдала, как обедает ее семейство.
Осташев есть «повытно» постеснялся, он побаивался тещу. Отложив аккуратно вилку и заискивающе поглядывая на Агафью, он рассказывал:
— Ивена́лиха второй день воет на своем дворе. Вчера с работы иду — воет, сегодня на обед иду — воет...
Агафья прислушалась, как будто через два дома могла услышать, как воет Ивеналиха.
— Сережа ли наверное помер, в больнице в Усть-Цильме лежал после операции. Вот Ивеналиха-то! — хвалила она дочкам Ивеналиху. — Трех мужей пережила. Первый Ивеналий на войне погиб. Она долго вдовела. Со вторым беда хорошо жили. Поехал на рыбалку и умер, прямо в лодке, сердечный приступ.
Услышав про Ивеналиху, Ленка даже из-за стола выскочила и долго мыкалась из угла в угол. Видно было, что грызет ее какая-то дума.
— Мамаша! — наконец решилась она. — Говорят, Ивеналиха казанку продает, все равно она ей больше не нужна. Ты бы пошла поторговала.
— А, что ли, пойду, — тут же согласилась Агафья.
В большой комнате в шкафу аккуратными стопками разложены ее наряды. Агафья любила наряжаться смолоду. И сейчас у нее несколько сарафанов, а платков и рукавов не перечесть. Самый любимый, старинный парчовый сарафан, еще матушке ее шили в девках, Агафья только любовно тронула рукой. Это для самых больших праздников. Она так гордилась, что даже в войну, в голодуху не продала его и не выменяла на хлеб, как многим пришлось. Агафья надела синие шелковые рукава, из шелка были сшиты только сами рукава, да кофта до пояса, а юбка пришита из старой серенькой баечки. Перебросила через голову тяжелый красный сарафан, и, пока стягивала тесемки сарафана под грудью, Ленка с иронией наблюдала за ней. Сама она, кроме штанов, ничего не носила и понять не могла, как можно носить эту хламиду, на которую извели двадцать метров ткани. Агафья в отместку, как на врага, глянула на выцветшие ненавистные джинсы, но сдержалась и ничего не сказала, предчувствуя, что у Ивеналихи выговорит душу. Жадобы на детей стали самой любимой темой их долгих разговоров: и помощи от них не жди, и надежды на них никакой, вот помрешь, так и наряды некому оставить, так и погниют в сундуках. Помирать Агафья не собиралась в свои шестьдесят лет, но говорить о своей смерти любила.
Платок она выбрала самый лучший, тут уж не могла удержаться и уже видела, как бабы будут разглядывать и щупать платок. Всю жизнь мечтала о таком и вот года три назад выторговала у одной старушки в Усть-Цильме за сто пятьдесят рублей. Той он зачем, все равно скоро помирать. Платок старинный индийский, еще бабке той бабки-устьцилёмы куплен в приданое. Агафья, широко махнув платком, кинула его на голову, и он золотом зажег стекла серванта и зеркала, выбелил и разгладил ее лицо. Недаром подружки ее, пенсионерки, часто говорят: «Тебя, Алешиха, еще замуж возьмут. Вон кака ты бела да пышна. Пойдешь?» — «Побегу, — с сердцем отвечает Агафья. — А то не нажилась еще досыта за сорок лет!» — «Да уж, наха́ба да морока, — вздыхают бабы. — А одной все ж худо. Мужик — пень, а все ж дает тень».
Да, женихов много находилось Агафье Мартемьяновне, но в тени она жить не хочет. Слава богу, пока в силах, и себе и детям будет защитой и опорой.
Она бы еще покрутилась у зеркала, разглядывая свои посиневшие от платка глаза, поправляя складки сарафана, но мешала Ленка. Стоя у притолоки, она вздыхала, изображая потерю всякого терпения. Агафья с досадой отошла от зеркала, в последний раз пригладив у лба свои светло-русые волосы. У Ленки были точно такие же. Смолоду Агафью донимали намеками и шутками, что у нее дети двух мастей; одни совсем беленькие, другие как воронята. Кто ж его знает, от чего оно так бывает. Как ни задевали Агафью эти шутки, она всегда спокойно и весело отвечала: «Чьи бы ни бычки, а телятки все наши».
Пройдя мимо Ленки, словно той у двери и не было, Агафья сунула пестрые писанки в калоши и выплыла за дверь.
Прошел час-другой. Ленка уже успела обкуриться с сестрами в коридоре, сбегать к Коле и Кате, а потом стала сердито ждать. «Как уйдет со двора, так полдня ее нету», — ворчала она, не замечая, что говорит мамашиными словами. Агафья вошла стремительно и незаметно и, складывая на ходу платок, понесла его к заветному шкафу. Ленка с Наташей кинулись за ней и молча стояли за спиной, терпеливо ожидая.
— Заговорились ли, заболтались, Иваниха подошла, Окся, — напевала довольная Агафья. Ленке она бросила небрежно: — Там на эту казанку покупателей — три дня стой, не достоишься.
— А как же Сережа? Помер? — спрашивала Ленка.
— Сережа? — удивилась Агафья. — Жив.
— А чего ж она воет?
— А так чего ле, обидно стало.
— Чего обидно?
— Обидно, как же: все плавают, рыбу имают, а ей и рыбки половить некому. Да еще выпила, да разобиделась, да порасплакалась — вот и легче стало.
Весь вечер беззаботно толклись на кухне, поедая остатки рыбы. Как стемнело, прибежал озабоченный Осташев, потом другой зять — Чупров. Они принесли весть, что рыба пошла, многие сегодня плавали...
— Никому сегодня днем бат не попадало? — спрашивала растревоженная Агафья.
Осташев острил — и рыба попадала, и кое-кто уже попадал.
В минуту было решено выходить ночью на пробу. Ленка вся вспыхнула азартным непоседливым ожиданием. Хотелось тут же, сорвавшись, лететь на берег, но сестры усадили попить напоследок чаю, а мужиков отправили готовить лодку и мотор. За чаем разговоры опять же только рыбные.
— Нет! — рассуждала Ленка. — С мужиками плавать не буду, лучше с мамашей.
Агафья стоит на своем любимом месте у печки и тихо учит Ленку:
— С мужиками только ли и плавать тебе. Их запишут, тебя нет.
Ленка крепко задумывается, положив на ладонь подбородок, но думай не думай — мать всегда права.
Агафья учит, все больше воодушевляясь:
— Ты у них за бригадира теперь. Сетку береги, береги пуще глаза.
— Береги-береги, что ж я сделаю, если поймают?
— Как что? Да я бы ни за что не отдала, ей-богу не отдам. Меня берите — скажу, а сетку не дам. Вот так лягу, руки-ноги раскину на этой сетке, и хоть что делайте, не отымете.
Агафья даже уши прикрыла ладонями, такой грянул хохот.
— Нужна ты им, старуха, — давится от смеха Ленка.
— Нет, ты им так скажи, — на ходу думает Агафья. — Боженые! Простите меня грешную, больше не буду, ей-богу. В первый раз и в последний. Как ни выйду поплавать, рыбы не имаю, только вы меня имаете.
Кухня снова загремела от хохота. Вдруг ветер так ударил в окно, что какое-то плохо пригнанное стекло звякнуло, а потом долго жалобно дребезжало в раме. Дождь обрушился сразу, без раскачки, громким ливнем. Все испуганно смолкли и прислушались.
«Какой вихорь поднялся, — тоскливо думала Агафья, глядя в мрачную ночь за окном. — В такую погоду нельзя на воду выходить, по старой вере. Вся нечистая сила гуляет, задавит и в воду утащит». Сказать это вслух Агафья не решилась. Да разве остановишь их. Ленка уже надевала свои «выходные» штаны, широкие, как шаровары, и подвязывала их на поясе веревкой. На два свитера напялила фуфайку, на голову заячью шапку и без прощаний и напутствий вышла с Колей за дверь. Никто их не провожал. Тут же все разошлись по домам, Агафья выключила свет и стала вслушиваться. Царапался в окно дождь, злобно ухал ветер, а на реке то и дело ревели моторы. Многие в эту ночь вышли порыбалить, понадеявшись, что в такую погоду рыбнадзор не будет усердствовать.
Стукнула дверь в сенях, и Агафья тут же поднялась. Она так и лежала в платье. Другая дверь распахнулась и грохнула за ворвавшейся Ленкой. Бросив в угол пустой мешок, Ленка на ходу включила свет и заметалась по кухне из угла в угол. Агафья стала у печки, скрестив на груди руки, и забормотала: «Сеточка, сеточка!»
Ленка ругалась, кого-то проклинала и даже в беспамятстве бросила несколько крепких слов. Агафью эти слова словно по уху шарахнули, но она не возмутилась, а только еще больше испугалась. Из угла, с детской кроватки, где днем отдыхала Агафья, строго смотрела сонная Наташка, словно говоря: «Ну вот, доигрались». Тихо вошел Осташев и виновато скрючился у притолоки. Прибежавшая в халатике Валя глаз не могла оторвать от Ленки, не узнавая ее искаженное злобой и мукой лицо. Ленка уже не ругалась, а проклинала весь свет и жаловалась, что ее опризорили с рыбой, и ноги ее больше на реке не будет. Говорить что-нибудь связное она еще не могла.
— Одну сплавку сделали, — прошелестел от двери Осташев. — А тут мотор...
— Сеточка, сеточка, — с мольбой искала Агафья Ленкин взгляд.
— Да цела твоя сеточка. Чупровскую забрали.
— Чупрова записали? — ахнула Агафья.
Чупрову никак нельзя было попадаться, его уже раз штрафовали.
— Нет, не записали Чупрова, — устало махнула рукой Ленка. — Мы как развернулись назад, он попросил поближе к берегу подойти и в воду... А там берег высокий, пока лез, они в него пальнули из ракетицы, а потом за нами погнались. Уже на берегу поймали, сеть взяли и квитанции выписали.
Ленка через силу выговорила последние слова, и наступило долгое тягостное молчание. Не верилось, что часа два назад на этой кухне беззаботно пили чай и смеялись. Сейчас казалось, что нежданно свалилась на них какая-то большая беда.
Агафья первая опомнилась от страха, велела Вале ставить чайник, зятя послала к Чупрову, а сама еще постояла, не двигаясь, у стола. Ей казалось, что, ступи она шаг, и мягкие непослушные ноги подогнутся в коленях, а стальная иголка в груди еще больнее вопьется в сердце.
Ленка сидела перед ней, поставив локти на раздвинутые колени и низко свесив голову. В тишине стало слышно, как сбегают с нее на пол тонкие ручейки. Агафья старалась на нее не глядеть, такая жалость к своему детищу накатила на нее, что в груди все застонало и заохало. Сама ведь, сама посылает на такую муку, не надо этой и рыбы, пропади она к лешему. Валя сняла с Ленки сапоги и ватник, вытерла лужу у ее ног. Когда Агафья тихо побрела в спальню, они еще пили чай, а Наташка, как филин, так и глядела из темного угла неподвижными глазищами. До самого утра ни сонная тишина в доме, ни теплый заботливый бок печки не смогли успокоить Агафью Мартемьяновну. Стоило закрыть глаза, как в них начинало колошматить и мелькать. Как у их пьяного киномеханика, дружка ее зятя Чупрова, раз по десять за кино пленка рвется, трещит и мельтешит в глазах. А на грудь наваливаетя что-то серое и тяжелое. Сколько раз бабы рассказывали: их по ночам что-то давит. Это домовой, дедко-суседко, он, если залюбит, то лижет, а не залюбит кого, то душит. Пo молодости Агафья боялась, а сейчас-то поняла: дуры вы бабы, дуры, не суседко вас давит, а старость. Давление, наверное, гадала Агафья, надо к фельшерке сходить померить. Ой тяжко, муторно! Ворочается без конца Агафья. Поплакать бы тихонечко до попричитывать, ей было стало легче, да боится разбудить и напугать Наташку.
Агафья была лучшей в деревне песельницей. До сих пор песни, так и не забытые смолоду, то и дело напоминались, и Агафья с утра до вечера тихо напевала, а когда дома пусто, то и громко. Как-то года два назад наехали студенты и две недели записывали у них в деревне эти песни. Собрали их вечером у Окси, всех старух деревенских. Все повытаскивали праздничные сарафаны из сундуков, купили бутылочку красненькой, много ли им, пенсионеркам, надо, и орали песни до самой темной ночи. Вся деревня всколыхнулась, бабы все дела побросали, коровы недоеные, скотина некормлена, а они на вечеринку усверкали. Уж лет двадцать не собирались на посиделки, а студенты заставили. И к ней домой каждый день ходили. «От вас, — говорят, — от одной, Агафья Мартемьяновна, записали сто тридцать песен, плакс и всяких побрехушек». До сих пор старухи смеются и понять не могут, кому это может пригодиться, но раз ездят, значит, надо.
Но Агафья не только песельница, но и умеет хорошо вопить. Так, специально, когда зовут, она не ходит. Но уж если умирает кто из ро́дников, многие идут, чтоб только ее послушать. По матушке своей она так кричала, что не помнит, как ее бесчувственную домой принесли. И сейчас, когда глаза натыкаются на старый матушкин складень в углу, на всякую вещь, что ее напоминает, Агафья начинает тихонько плакать:
Кормилица мати, родимая,
Дорога мая да лебедь белая,
Как тебя да забывать буду?
Не запить мне да ключевой водой,
Не заесть мне да скусной едой...
Плачет часто Агафья Мартемьяновна, когда вспоминает войну. Остались они все тогда солдатками лет по восемнадцать-двадцать. Хлеба ж тогда совсем не было, только от реки и жили. Хлеб привозили только в Хабариху раз в неделю, и они все в этот день плавали в Хабариху черт-те в какую даль: может, достанется буханочки по две хлеба. А иногда и не доставалось. А моторов же тогда не было, на руках ходили. И вот бабы ее на нос посадят, от весел освободят, только пой. И она пела, не то что заставлять, просить не надо было, само бежало:
Голубушки мои боленушки,
Куда мы опять пошли-поехали?
Наживать себе хлеба, горьки вы удовы безмужние,
Солдатки вы да горе-горькие.
Бабы сидят на веслах, слезами заливаются: «Пой еще».
Когда мы дождем конца войны,
Когда нас возрадует?
Когда мы наедимся хлеба печеного
И когда мы доспим да плотным крепким сном,
Отпалит от сердца сер-горюч камень?
Часто она не спала ночами, вспоминая молодость, старую их деревеньку. Вспоминала и улыбалась в темноту. Но стоило случиться хоть какому-нибудь невеликому горю, и ночь становилась для нее бесконечным бессонным мучением, и слова, затверженные памятью, сами бежали на язык, а за ними бежали и слезы. Она лежала до утра и шевелила губами, в который раз прогоревав каждую строчку причета по матушке, братьям, погибшим на войне, умершим детям.
Под утро она вдруг вспомнила свою тетку, одинокую богомольную староверку, и ее вопли о неродившихся детях и тяжелой старости. И хотя они совсем не подходили ей по словам, но горе теткино приплелось к ее бедам, и все эти беды, свои и чужие, совсем растравили ей душу. Подушка уже стала мокрой от слез, и Агафья, то ли устав, то ли выплакавшись, понемногу успокоилась. Когда неуверенно забрезжил серенький рассвет, она тут же вскочила, радуясь, что не надо больше лежать. Дел сразу нашлось много. Накормив скотину, она чистила картошку на низеньком стульчике, и ночное происшествие уже не казалось таким страшным, сетка цела, Чупрова не оштрафовали.
Первой встала Наташка, потом пришла заспанная Ленка, села в углу и долго тупо смотрела, как возится у плиты мать. Заскочила на минутку Катя.
— Ну что, как он? — спросили все в один голос.
— А ничего, на печке лежит, — с веселым равнодушием отвечала Катя.
Она была в хорошем настроении. Утром неожиданно прояснилось, посветлело на улице и в доме, проглянуло солнце, а потом сильно ударило косыми лучами в мокрые крыши.
— Ты представляешь? — рассказывала матери Катя. — Они в него стреляли из ракетницы. Ведь и убить можно или пожечь одежду, да? А Чупров мой, как лось, вышел из воды и как рванет наверх, а берег высокий, песок. Я бы ни за что не влезла, а он вмиг — вот что значит не курить. А там такие кусты, что не пролезешь. Так он, представляешь, по земле, как уж, между корнями по-пластунски полз.
Катя показала, втянув голову в плечи и разгребая руками, как полз Чупров. Все невесело посмеялись, улыбнулась и Агафья.
— Он же у меня знает, как убегать, пограничником служил. Вот пускай, теперь ему тут на всю жизнь граница: зимой — охота, летом — рыба.
Чупрову лет 35. Где он только не учился в молодости. И в политехническом институте, и в художественном училище, наконец, закончил с грехом пополам культпросвет, долго мыкался по городам, но вдруг в один день бросил все и приехал домой. Лет пять он числился завклубом, но уже по ступенькам клуба видно было, как пекся зав о своем учреждении. Он писал красочные афиши к киносеансу, рисовал плакаты к праздникам — вот и вся его деятельность. Работала Катя, тоже выпускница культпросвета, вела кружок игры на аккордеоне, собрала хор из молодежи. Хотя эти спевки были для нее даже не работой, а самой большой радостью в жизни. Она готова была петь до утра и возвращалась из клуба счастливая.
А Чупров жил охотничьими и рыбными сезонами и своими книгами. Зимой он уходил в тайгу иной раз на неделю и возвращался в каком-то одичавшем лихорадочном состоянии и без лица. Катя не узнавала и боялась этого чужого мужика. В глубоких черных ямах исчезали глаза. Особенно страшны были ровные лунки вместо щек, углом сходившиеся в острый подбородок. Вдобавок он бывал черен лицом то ли от мороза, то ли от усталости. Нынче зимой он принес целого лося. Катя тут же превратила его в тушенку, закатала банки и спустила в погреб. Вот уже август, а они все еще варят суп из этой тушенки.
Возвратившись, Чупров тут же напивался и без памяти лежал за занавеской у печки. Катя торопливо задергивала занавеску, кто бы ни вошел. Агафья давно не залюбила Чупрова за то, что он шибко попивает. Хоть и защищала его Катя, что он попивает не регулярно, слово-то какое, не выговоришь, что пьяного его никто не видит и не слышит, он очень смирён.
Очнувшись, Чупров неделю отходит, лежит на диване и читает свои книги. «Лежит и читает целыми днями, — рассказывала, забежав по нескольку раз на дню, Катя. — Встанет, водички попьет и опять читает», «Чтец» — только и скажет Агафья, а у самой аж сердце зайдется от досады. Дом строил лет десять, если б не она с братом, и сейчас бы стояли одни стены. Только въехали, в комнатах пусто, подзаработал бы на обстановку, чем валяться с книжкой целыми днями. Говори не говори — толку чуть. Катя только молчит, поджав губы. Она понимает, что без матери они бы пропали, но жалеет своего Чупрова и даже втайне очень им гордится.
Чупров не читает Катиных книг и журналов, разбросанных по всему дому. У него своя библиотека, запертая в шкафу. Когда открывается этот шкаф, Катя видит, как открывается и светлеет лицо Чупрова. Он долго любуется своими сокровищами, распахнув вместе с дверцами руки. На полках стоят и лежат в каком-то чупровском порядке и разумении аккуратно подклеенные рукописные книги в черных телячьих переплетах, более новые псалтыри, евангелия, молитвенники. В углу стопка керенок, складки, эмалевые иконки. Чупров трогает черные корешки, словно раздумывая: взять эту? — но потом отводит руку. На самом деле ему просто хочется потрогать.
Часть этих книг досталась ему от бабки. Она служила молебны, отпевала покойников, крестила младенцев. Чупров рос возле бабки, и та порой насильно заставляла их с братьями читать и толковала прочитанное. Братья ненавидели строгую неласковую бабку и ее постные книжки, а Чупров, когда пришла ему в город весть о ее смерти, почувствовал себя брошенным и обездоленным. Вернувшись, он от нечего делать по страничкам почитывал заброшенные книги, и вдруг они, в детстве вдолбленные силой, заговорили с ним понятным, волнующим языком.
И хотя были они так далеки от чупровской жизни, но приносили его душе непонятный покой и уверенность, что всё идет как надо. Так с бабкиными книгами он и прожил семь лет, даже не заметив, как выросла его семья, а он сам перестал метаться и менять увлечения.
То и дело к нему наведываются старухи с просьбами переписать на листочек молитву, какая понадобилась, или акафист. Да ведь так просят, что не уйдут, пока не сделаешь. И отказывать в этом у него не хватает духу. Сам он считает себя неверующим, но кто-то глубоко посеял в нем уважение и бережность к вере. Чупров красиво и четко переписывает, а потом, смеясь, показывает Кате найденные в кармане трешки и пятерки. Зная, что Коля за труды не берет, старушки приспособились незаметно совать ему бумажки или дарят старые книжки, все равно самим не прочитать. Чупров стал в своих краях человеком знаменитым. Старики его любили и хвалили за честность и большую ученость.
«Сегодня, только печку затопила, заходит какая-то старушка из Ёрмицы, — рассказывает Катя, поглядывая на мать. — В гости приехала к сестре. Привезла Чупрову три книжки. Бери, говорит, бабка наша померла, не знаем, куда их девать. Он аж затрясся весь, как увидел эти книги», — смеется Катя.
Но Агафья не слушает, думает о чем-то своем и вдруг решительно говорит:
— Вот что! Рыба рыбой, будет ли она — нет, а надо ягод набрать, пока есть. Твоему Чупрову заданья будет дадена. Коля на работе, везти некому, кроме как ему.
Катя обомлела.
— А Ленка? — с надеждой спросила она.
Ленка замотала головой. Она презирала это бабье занятие. Никакая сила не могла заставить ее и полчаса просидеть на корточках, дергая по одной ягодке.
Выйдя на крыльцо, Катя вздохнула и потом все вздыхала, идя огородом к своему дому. Она постояла у порога, стараясь унять тревогу, чтобы голос ее не выдал, и небрежно, буднично позвала:
— Чупров, а Чупров. — Молчание в ответ. Катя сказала, точно эта мысль только что пришла ей в голову: — Поедем-ка по ягоды. Кольку вызвали на форму проводку чинить. Ленка приболела, некому нас везти. Надо бы ягод набрать, а то скоро отойдут.
— Куда тебе, ведра два уже сварила, — вдруг донеслось с печки.
— А что нам эти два ведра, — затараторила Катя. — Ты сам банку съедаешь за раз. И до Нового года не хватит. А морошки всего кастрюльку замочила.
Катя затаила дыхание. Прошелестела страница, и вслед Чупров буркнул, чтоб отстала:
— Поедем-поедем, в Мещерское.
Буйная радость вынесла Катю за дверь. До крыльца она бегом бежала, а на крыльце даже рассмеялась вслух. Ей казалось, что дело так хорошо уладилось только благодаря ее умению и дипломатии. А сказал бы Чупров, как отрезал, не поеду, и был бы скандал, а скандалов Катя боялась.
— Поедет, поедет, — уже от двери закричала она.
Агафья допивала чай и даже не оглянулась на Катю, словно иного и не ожидала решения от Чупрова и не могло его быть.
— Собирайтесь, — кивнула она Вале. — А я в магазин сбегаю.
Она подмигнула Ленке, но та сидела безучастная, глядела куда-то в угол и пребывала неизвестно где. Попробовала улыбнуться в ответ, но улыбка вышла жалкая.
— Нет, не везет мне нынче на рыбу, опризорили меня, — вяло сказала она и тут же, вспомнив, сняла с шеи нательный крестик, собрала его вместо с цепью в горсть п положила на стол перед матерью: — Ничего не помогает твой бог.
— Не тухни, пока не пухни, — вспылила Агафья, а Валя с веселой укоризной заметила: — Ты и надеваешь-то его, только когда выходишь плавать.
Агафья пошла было одеваться, но вдруг вернулась и, встав против Ленки в двух шагах, заговорила медленно, торжественно, как всегда говорила о чем-нибудь не обыденном, не суетно-земном:
— Ты знаешь, как святые апостолы Петр и Павел рыбу ловили?
Ленка подняла понурую голову, все перестали жевать, а Валя осторожно, чтоб не звякнул, поставила стакан на блюдце. Мать не была рассерженной. Она была такой, какой бывала редко, неожиданно впадая в необычное, приподнято-серьезное настроение.
— Раньше мы в колхозе неводом рыбу ловили, выйдем — одни бабы. И вот старухи все так раньше говорят: «Петру и Павлу, святые апостолы, дайте рыбы на уху». Верили, что они помогают. Говорили, что ловили они, святые Петр и Павел, сорок тонь метали, никто не попал, ни одна рыбинка. И все говорили, как сплавку сплывут, так «слава богу», так «слава богу», и перекрестятся. Сорок тонь метали, не ерничали, не ругались, все «слава богу» говорили. А на сорок первой столько попало, что только ко́нцы подтянули к берегу, весь невод битком забит, как каша варится, столько рыбы. Они взяли на уху, остальную всю рыбу спустили, чтоб всем людям была рыба на всю жизнь. Вот! И говорят, тогда-то и появилась в реках рыба, и люди стали рыбачить и рыбу есть.
Агафья тут же вышла, даже не глянув, какое она произвела впечатление. Ей стало неловко за свое волнение и горячность. Вот и рука слегка дрожала, когда она вынимала из рюмки в серванте свернутые трубочкой розовые бумажки.
На кухне никто так и не выронил ни словечка. Ленка ожила, тяжелая мрачность ушла с ее лица, а пришло что-то нежно-девичье, мечтательно-рассеянное, словно она не знала, верить или нет, а верить хотелось. Она долго смотрела в окно на мать, пока та бреда по дороге, прижимаясь к забору, где посуше. Обычно в магазин бегом бежала, а сейчас шла, точно нарочно дела искала. И не нарядилась, что уж совсем на нее не похоже. Так и пошла в старом платке и телогрейке. Когда мамаша исчезла из виду, а Ленка осталась одна сама с собою, она вдруг с удивлением заметила, что тяжелое ночной похмелье обиды, горечи и стыда растопилось и исчезло без следа.
Солнце по-утреннему сияло, как лампочка под потолком — блеску много, а тепла чуть, но медленно и верно набирало силенок, чтобы припечь посильней. Скоро от мокрой земли и крыш повалит густой, душный пар, а солнце, сделав наскоро свою основную работу — подсушив и нагрев чистый, промытый дождями воздух, уже от нечего делать будет жарко бить в спины и рисовать лучами золотые лужи на покорной сонной роке.
«После обеда будет жарко», — равнодушно подумала Агафья.
С двери магазина в глаза ей ударила сначала синяя стрела, потом красные жирные буквы: «Молния!» Сердце у нее гухнуло и застучало мелко и часто. Такие «молнии» вывешивали у них на браконьеров, пьяниц и прогульщиков. Жадно глотая глазами буквы, она читала без очков:
«Из звена № 1 было доставлено 32 тонны спрессованного сена. Это сено в течение трех дней не было вывезено с понтона и попало под дождь, в результате чего в день проверки на сенобазе обнаружено, что это зеленое, первой косы сено забаксело и горит. Управляющий отделением Чупров И. С. и бригадир растениеводства Поздеев В. А., а у вас душа не горит об этом сене?»
Уже первые строчки Агафью успокоили, но она с удовольствием прочла все до конца, а фамилии даже в другой раз, потому что бригадир был ее родной племянник Витя.
— Ишь ты! — одобрила «молнию» Агафья. — Раньше дак писали все по-культурному «сопрело», а теперь по-нашему, по-деревенскому — забаксело. — И она поторопилась пойти, чтобы дверь, открытая резко изнутри, не шарахнула ее по лицу.
В глазах запестрело от цветастых шалей и юбок. Все одеты по-людски, а она пришла, как самоедка, в чем по двору ходила. Разговоры смолкли, как она вошла, и начались шумные приветы и здравствования. Кое-кто поглядел с сочувствием, а другие так и впились в нее, чё ли высмотреть. Знают уже, тут ничего не спрячешь. Музыкой лилась певучая речь, продавщица сновала от мешка с сахаром к весам, все брали помногу для ягод.
— Смородина-то черная поспела?
— Она беда вкусная, потолочь с сахаром и так стоит.
— Сама сегодня видела за Крестовкой, много зелени, но и черненьки есть.
— А чего ли ездили в Крестовку?
Шепотом:
— Сети проверяли.
Все замолчали и прислушались.
Подошла ее очередь, и Агафья взяла две головки беленькой и коньяк. Взяла впрок. Вот придет баржа с кирпичом, надо трактор просить до дому доволочь. А спешила она в магазин за другим. Скоро школа, и она решила купить форму Колиному сыну. Коля строится, и маются они с деньгами. Никто ее не просил и знала, что не попросят, она сама, получив пенсию, бегом побежала в магазин, чтоб не опередили. Подумав, она купила еще фартук Катиной дочке, сахару, хлеба, крупы. Долго шарила глазами по полкам, чтоб еще купить, но купить было нечего, и она, встретив ждущий взгляд продавщицы, махнула рукой — все. Завязала две неподъемные сетки узлом и перекинула через плечо, сумку в руку и зашагала через всю деревню домой. Покупки хоть и небольшие, а маленька радость.
Чупров всегда ездил по ягоды только в Мещерское, он оттуда родом. Когда-то это было большое старинное село, но лет пять назад его решили упразднить. Убрали магазин, почту, электричество, и народ волей-неволей разъехался. Дома из Мещерского зимой по льду растаскали в разные стороны трактора. Эти огромные в два этажа хоромы из черных бревен хоть и простояли уже сотню лет, но ценились дороже новых. Летом в Мещерское наезжал народ, больше старухи и дети, привозили сюда скот и жили, хоть и без света, зато на воле. Здесь были хорошие пастбища; сена косили сколько хочешь, и свободнее с рыбалкой.
Наташке сказали, что поедут на болота, и ей представилось что-то безлюдное, мрачное и опасное. Болота она видела с самолета: сколько ни летишь — все огромные ржавые лужи да зеленые трясины, ни деревца, ни человечка. И чего их туда несет — думала она с досадой, но дома оставаться не хотелось. Обещали не больше чем на пару часиков.
Пристали к берегу, совсем не такому, как у их дома. Откуда-то сверху, сталкиваясь боками и перепевая друг друга, бежали маленькие ручьи с малиновой и рыжей водой. Долго взбирались по высокой круче, заросшей густо и дико, как джунгли. Какие-то длинные гибкие растения, как живые, хватали за ноги. По самому краешку горы испуганно теснился лес. Толпа деревьев стояла по щиколотку в густом черничнике и с тревогой глядела вдаль на болото, куда никакая сила не могла заставить их пройти. Там вдали кое-где присели редкие кустики да кривые крохотные березки. Да и не в чем здесь было расти деревьям. Под ногами колыхался тонкий травяной настил, а под ним зыбко и тяжело ходила вода. Наташа покачалась на нем, слушая, как злобно и неподатливо ухает вода, но настил крепко держал ее легкое тело.
За спиной словно трактор прошел, затрещали сухие ветки, захлюпала вода под размашистыми смелыми шагами. Это Чупров пронесся и исчез далеко впереди. Катя с гордостью кивнула ему вслед:
— Мой Чупров как лось. Он же вырос на этих болотах и все тут вдоль и поперек обегал.
Мать и тетка стояли, щурясь на солнце, и натирали себя комарином. Потом они нырнули в черничник и затихли, а Наташа все стояла, боясь шелохнуться, и вглядывалась туда, где было светло и пусто, где и было настоящее гиблое болото. Ни на какой другой клочок земли солнце так щедро, не меряя, не лило золотой яркий свет, как на это болотное дно с кочками и трясинами, прикрытыми для опрятности нежно-зеленым мхом. Мох казался нежным и мягким, как пух, так и хотелось в него лечь. Наташа положила ладонь на зеленую головку, но мох оказался не таким уж мягким и упрямо пружинил снизу. Она потянула к себе пучок, и оказалось, что пушистую голову держат некрасивые жесткие стебли. И как олени жуют это? Наташа, забывшись, смело ступила вперед и тут же шухнулась по колено, набрала целый сапог и замочила джинсы. Как же обманчива и ненадежна болотная красота. Но все-таки это лучше, чем ржавые лужи и трясины, подумала Наташа, значит, бывают болота красивые, а бывают нет.
— Наташка, держись поближе к деревьям, никуда не уходи, — кричала ей мать.
Да, тут как уйдешь, так и пропадешь. Но скучно все время стоять под боком чахлой кривой березки, и Наташа стала осторожно красться вперед, выбирая, где под ногой твердо. Сначала ей приходилось наклоняться за каждой ягодкой морошки, то прозрачно-желтой, то красным фонариком мигавшей из мха. Ягоды были безвкусными, с твердыми семечками и пахли болотом больше, чем само болото. На полянке она вдруг наткнулась на целое семейство, и дно ее детского ведерка сразу прикрылось. Она уже на ходу сочиняла и пела песенку про болото, но тут на нее накинулась стая мелких колючих мошек, и она побежала обратно к берегу. Ягоды уже наскучили ей, и полюбовавшись в последний раз болотом, она пошла к лодке, туда, где громко лопотали ручьи. Наташка уселась на носу казанки и стала ждать, когда вдали нa пустом берегу показалась женщина. Ее малиновая душегрейка ярко, как из темноты, засветилась издалека. Женщина была высокой и очень стройной, шла плавно и стремительно, широкий синий сарафан мягко вился у ее ног. Синий с золотом платок, такой же, как у бабушки, кистями лежал на плече. Но когда она подошла поближе, Наташа увидела, что лицо у нее старое, что она совсем старая. Как учила ее бабушка, она поклонилась и сказала: «Здравствуйте». — «Здравствуй», — просто ответила женщина, как будто давно ее знала и каждый день они здоровались на этом берегу, и не оглядываясь пошла дальше, к двум одиноким большим домам. Наташа подумала, что душегрейка ее сшита из плюшевого с узором ковра, где-то она видела такой на стене. Если бы не это наблюдение, то, может быть, Наташа чуть-чуть бы испугалась. А может, и нет, ведь ей уже двенадцать лет, и она уже перестала верить в сказки, хотя и любит их читать. Но эта женщина в старинном сарафане, такая яркая, нарядная, казалась на пустом берегу совсем ненастоящей.
Спустились сначала мать с теткой, они набрали по баночке черники, у бабки было полведра, но такой мусорной ягоды с листьями и веточками.
— Где этот лешак? — спросила бабка.
Всем хотелось поскорей ехать. Тетя Катя стала кричать — Чупров, Чупров. Чупрова долго не было. Он появился где-то в стороне и долго шел к лодке по берегу. Ведро его было с верхом полно желтой морошки. Мать с тетей Катей заохали и заахали. Тетя Катя поглядывала то на ведро, то на бабку. Но бабка не заметила ни ведра, ни Чупрова.
Поднялся ветерок, и гладкая вода вся заребрилась мелкими волнами. Казанка шла, как по кочкам, и ее пустые железные бока надоедливо дребезжали. Совсем рядом прошла рыбнадзоровская лодка с красной полосой по корме. Все уставились во все глаза, только Чупров глянул исподлобья и отвернулся. Наташка ожидала увидеть здоровенных злых мужиков в милицейской форме, а в лодке во весь рост стоял рыжий парень, он сдернул рубашку и выпятил к солнцу грудь. Обычно встречаясь на реке, люди здороваются кивками или просто украдкой разглядывают друг друга, интересно же, из какой деревни едут и зачем. А рыбнадзорщики даже не взглянули на них, как на совсем пустое место, и лица у всех троих были какие-то надменные и суровые.
— Ишь ты! — насмешливо кивнула бабка на парня. — Начальник. На людей и не глядит. — И помолчав, добавила, словно самой себе, но громко: — И правда сегодня баяли бабы в магазине, две лодки ушли вверх, а одна в Усть-Цильму.
На столе гора ягод. Агафья с Валей придвигают себе по горсти, гора тает и тает. Ягоды катятся по столу, падают на покатый пол и разбегаются, как мыши, по углам. Два малыша с визгом гоняются за ожившими ягодами, весь пол в черных раздавленных кляксах. Агафья покрикивает на внуков, но унять не может. На кухне тихо переговариваются Ленка с Колей.
Ленка вошла и взяла из шкафа свои «выходные» штаны. Агафья, как увидела, и руки уронила. «Что, опять?» — испугалась Валя. На этот раз Ленка собиралась без радостного азарта, а хмуро, как на тяжелую надоевшую работу.
Вышли провожать их целой толпой. Ленка стояла в лодке, пока Коля отталкивался веслом, а Чупров дергал веревку и никак не мог завести мотор. Наташка помахала ей рукой, как на прощание, и все дети замахали вслед. Ленку это развеселило. Она вдруг лихо вытянулась в струнку, победно выбросила вверх сжатый кулак и так и простояла, пока лодка не ушла за поворот. Агафья хоть и поморщила губы, не сдержав улыбку, но неодобрительно сдвинула брови: старики говорили, на такое дело надо идти с серьезностью, без смеха, как нельзя звать солнце солнышком, а хлеб хлебушком.
С берега не хотелось уходить. Еще вчера в непогоду река была широкой, вольной и суровой, ясный день преобразил ее. Словно у́же стали берега, а река уютней и добрее. Прилетел вертолет за рыбой и с медленной осторожностью, высматривая, как бы не зашибиться, стал садиться прямо у их бани. Трава и кусты так и шарахнулись от этого чудища, но как убежишь, если ног нету, и они в страхе полегли к земле.
Подошла любопытная Окся чё ли новенькое выведать:
— Боженые! Это не вас ли поймали утром раненько?
— Нет! — с готовностью объясняла ей Катя. — Нас ночью поймали, а утром это Рочевых — Витьку, Ваську и Кольку.
— Ну? Этих только ли и ловить. Бают, двадцать рыбин в мешке взяли.
— У кого двадцать, у кого одна — все один конец, — с горечью махнула рукой Агафья.
— Все знают, они на продажу ловят. Продадут и пропьют.
— Эти не то что рыбой, сеткой чужой не побрезгуют.
— А! Дак у тебя чё ли сеть скрали? — сочувственно шамкала Окся.
— У нас, у нас, — кивала Катя, потому что мать не слушала Оксю и не глядела на нее, а говорила неизвестно кому в сердцах:
— Стыд-то какой! Раньше двери не запирали, а теперь сеть не повесишь сушить — унесут. Мне б поймать такого, руки бы обрубила, ей-богу.
— Перед утром вышли умники, думали, рыбнадзор спать полег. А вправду, божены, когда ж эти лешаки спят? — удивлялась Окся.
— А они не спят совсем, железные, — всерьез объясняла Агафья, а в голосе скользнула такая нехорошая, недобрая нота, что дочки даже смущенно покосились на нее: так не похоже это на мать.
Окся потрусила дальше, там вдали на бревнах собиралась посиделка из стариков.
Агафья чутко вслушивалась, не гудит ли где мотор, но необычная тишина прилегла над рекой. Только из-за поворота вдруг вывалилась лодка не лодка, какая-то старая бадья. Борта ее едва виднелись над водой двумя кромками, только настороженно торчал черный старомодный нос. Мотор тихо жужжал, а временами надсадно чихал, словно хлебнув воды. С мотором, как нянька, возилась маленькая худая женщина, а на носу барыней сидела, разложив вокруг себя юбки, грузная старуха, закутанная в платки и телогрейки.
— Ну, стружок так стружок, — захихикала Катя. — Небось еще в приданое даден, а мотор первого выпуска, девятьсот шестого года.
— Ананьевна с дочкой вышла поплавать, — Агафья даже на цыпочки привстала, вглядываясь.
— С племянницей, мама.
— А точно, с племянницей, не вижу, слепа тетеря.
Лодка медленно кралась к берегу, даже кругов от нее не шло. Агафья подошла к самой воде и закричала, потому что старуха была глуховата:
— Ананьевна, ну что тебе сегодня наблести́ло? И тебе дак рыбки захотелось?
— А что ж я, святым духом питаюсь? — сердито отвечала, сидя к ней спиной, Ананьевна, видимо, сильно недовольная, что наткнулась на свидетелей.
Агафья, подобрав подол, вошла в воду и подтянула лодку к берегу. Подхватив Ананьевну под мышки, они втроем снесли ее на берег, и она тут же засуетилась, со страхом огляделась, выхватила из рук племянницы мешок и сунула его под юбки.
— Вот, одну сплавочку сделали, — похлопала она, то ли по мешку, то ли себя по животу. — Так, несколько рыбок, окунечки.
Племянница взвалила на плечо мотор, и все вместе двинулись по домам. Издалека поздоровались с ними соседи. Они чуть ли не бегом побежали к лодке. Мужик тащил мотор, жена следом — весла. Пришел по-летнему яркий теплый вечер, весело щурились на солнце дома, а жители их неизвестно от чего заметались и заспешили. «Когда лыко, тогда драть», — усмехнулась про себя Агафья, глядя на эту суету. Даже старики все высыпали на бревна, уселись, пенсионеры деревенские, и провожают глазами каждую лодку, убегающую за поворот. Агафья постояла еще чуть у калитки и нехотя вернулась к своим ягодам.
Вечером у их дома не было ни души, только кот у крыльца терзал маленького окуня и никак не мог с ним управиться. Стемнело, и мрачно зачернели у забора редкие ели, а лес подступил к самому огороду и молчал с настороженной угрозой. Зато жарко и весело горели все окна, трещала от усердия печка, уставленная сковородками, чугунками и кастрюлями. Наташка старательно укладывала в сковородку крупного, как поросенок, окуня. Голова у него ушла под самое брюхо, и от этого он был, что вдоль, что поперек. Ленка, развалившись на стуле, вытянула чуть не до печки длинные ноги, так что мамаша, прибежав из кладовки, где она только что засолила поджарого метрового сига, не заметила и споткнулась. Мамаша попробовала рассердиться и даже что-то пробурчала насчет того, что ноги выросли, а ум не догнал, но тут же забыла, что еще хотела сказать, и беззлобно пнула Ленку валенком.
— Ой, забегалась я с вами, погоняете вы меня, — сказала мамаша.
— Давай-давай, бегай, — снисходительно поглядывала на нее Ленка снизу вверх. — Состаришься, мы за тобой бегать будем.
— Да! Едва ли бог картошку ел, — усомнилась Агафья.
Наташке на бегу давались указания:
— Теперь полей водицы, масла кусок положь, крышкой накрой.
Лепка, посмеиваясь, наблюдала, как Наташка запихивает на сковородку еще одного окуня, подтыкает его по бокам, но круглый, как блин, окунь оказался слишком широк и не лез. Она понемногу отходила от усталости и напряжения, с матерью и Наташкой ей было просто и свободно. Только что она курила с сестрами в просторной Катиной кухне и мучилась, считая минуты, оттого, что не о чем было с ними говорить. О чем они болтают целыми днями — непонятно. Ленка завороженно следила, как Валя изящно, по-городскому, вертит в пальцах сигарету, и старалась не глядеть ей в глаза.
— Как будто гражданская война у вас идет, — говорила Валя, растягивая слова и словно прислушиваясь, хорошо ли она говорит. — Устала за неделю, хуже, чем на работе. Лучше б на юг поехала.
«А ведь не выпендривается, — слушала Ленка. — В самом деле такая».
Потом сестрицы хором стали ее учить, как жить, ругали за гардероб. «Купила бы себе платьице приличное», — кудахтала Катька. «Или джинсы вельветовые итальянские, тебе пойдут, — вторила Валентина. — Хочешь достану?» Ленка долго не выдержала и подалась домой. Хорошо Чупрову: он, как глухой, читает себе на печке свои книжки и не слышит ничего, чего не хочет слышать, и они к нему не лезут. Вернулась мать с пустым ведром и все выспрашивала, кого видела, кто с чем вернулся.
— А Ленька-то плавает? Не видала его?
— Как же без Леньки. Вышел плавать пьяный в лежку, мотается взад вперед, мотор гробит. Слышишь, ревет? Я уже по звуку определяю, если мотор ревет, значит, пьяный в лодке.
— Вот счастливый человек Ленька! — завистливо удивлялась мать. — Он и омулевку из воды не вынимает. Напьется и в лодке спит. И никто его не имат. И инспекции он не попадает. На счастливого человека и через землю зверь идет.
— Да уж, кому попадает рыба, кому нет, — соглашалась Ленка. — От рождения, что ли, счастье такое человеку дается? — спрашивала она у матери, а Агафья задумчиво кивала — от рождения, не иначе.
Наташке казалось, что они затянули какую-то долгую полюбившуюся песню, и ей захотелось подтянуть:
— А знаешь, Ленка, — похвасталась она, — меня баба завтра возьмет сети проверять.
Ленка притворно изумилась и завистливо покачала головой.
— Вот, пристает сегодня весь день. Ничего я ей не обещалась, не выдумывай.
— А чего, мам, возьми, пусть приучается. Вместе рыбачить будем, да, Наташ? Только мамаше своей не говори.
Агафья поставила на стол окуней, и Ленке даже нехорошо стало от рыбного запаха. Видеть она ее не могла, не то что есть, эту чертову рыбу.
Ленка взяла в тайнике за притолокой спрятанную сигарету и вышла на крыльцо. В темноте она подскользнулась на недоеденном окуне и отчаянно взмахнула руками, чтобы не упасть. Посмеявшись над собой — надо же, опять рыба, никуда от нее не денешься, — Ленка закурила и стала слушать моторы на реке; далеко ли гудят, сколько и чьи. Она уже решила, что завтра рыбалить не будет, а с утра поедет к себе на остров, там вечером танцы, поэтому тяжесть скатилась на время с ее плеч. Наскочил легкий ветерок и дунул на сигарету так, что с нее брызнули золотые искры. Потом он пробежался краем леса, и оттуда донеслось глухое недовольное роптание.
Между грядок, ругая темноту, пробирались сестрицы. Недовольная усталость от них уже прошла, и Ленке даже казалось, что давно их не видела и успела соскучиться. Она крикнула им навстречу низким простуженным голосом:
— Девки! Рыбу-то давно всю съели, зря идете.
— Ой! — сразу поверила Катя. — Как же так, без нас?
— Да смеется она, ты что, не слышишь! — И Валя первая ворвалась на крыльцо, чтобы дать Ленке колотушек за вранье.
Ленка с ними не пошла, а отправилась спать наверх, на вышку. Там не было слышно голосов, и казалось, что лежишь где-то один в лесу, в маленькой теплой избушке.
Из окна вышки она долго смотрела вниз нa огни поселка. Дома все как один еще горели огнями: одни весело и нахально, другие с угрюмым терпением, окошко избушки бабки Иванихи еле теплилось, как ладанка. Ленка заметила, что у каждого дома словно свое лицо, и оно до удивления напоминает своим выражением хозяина или хозяйку. По окнам можно было даже определить, в каком доме тепло и надежно, а в каком одиноко и несчастливо. Дома все смотрели на тот берег, в непроглядную стену ночного мрака. Там и была когда-то их деревня, сейчас выросшая в огромный поселок. Совсем недавно, как говорил Ленкин дед, лет так 250—300 назад, а может, четыреста. И называлась она по-другому. Место было низкое, и каждую весну его заливало водой. Один мужик терпел-терпел и переехал на другой берег, построился и стал жить один, как пенек. Все на него пальцем показывали, смеялись и прозвали Трусом. Посмеялись и стали тихонько пристраиваться к Трусу под бочок или зимами перетаскивали по льду свои дома. Лет в десять все к нему переплавились. Хоть и доброе дело сделал мужик, но кличка осталась за ним на всю жизнь, и деревня стала называться Трусово. Все деревни так и названы — или по первому засельщику, или по реке, на которой стоят.
Ленка долго не могла заснуть от усталости, ворочалась и курила у окна. Вдали мигала и разбегалась стая огней. Это фермы и лесосклад. Почти все дома уже потухли и спали, напротив устало прикорнул дряхлый дом в два этажа. «Вот стоит уже лет двести и еще сто простоит, и никто теперь уже не знает, — думала Ленка, — кто в них жил двести лет назад и чем жили эти люди. И мне лет через пятьдесят будут смешны мои нынешние заботы». Она стала считать, сколько ей будет через пятьдесят, оказалось семьдесят три. Она вдруг поверила, а раньше не верила, что умрет, как все, и будет лежать на их тесном кладбище под черными деревянными крестами, где смешались кости десятков деревенских поколений, и Трусовы косточки лежат где-то на самом дне. «Может, был нашим родственником», — мечтательно таращилась Ленка в темноту.
Деревня Трусово совсем повалилась спать, ни одно окошко не пугало своим желтым глазом ночь, когда и Ленку наконец сморило. Она еле добралась до кровати, залезла под марлевый полог, и тут же сон положил свою тяжелую руку ей на плечо. До самого утра ей снились только рыбные сны.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





