ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна



рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Руднева Любовь 1968
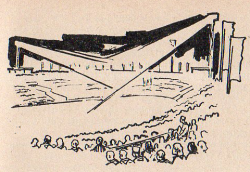
— Москва отдана пионерам, потоп! — ворчала соседка Мура. — Прут через переднюю площадку, забили трамваи.
Я молча умываюсь на кухне. Коптит керосинка Муры. Накрашенная девушка ворчит, как старая-престарая ведьма. Я молчу. Тороплюсь. Но, исчезая в спасительной темноте коридора, я тихо и раздельно говорю:
— Мы против мещанки-куклы...
— Ты чего хочешь? — кричит Мура, бросаясь за мной вдогонку.
Хорошо еще, в темноте не видны на ее вскинутых вверх лапках красные наманикюренные ногти. Я боюсь когтистой Муры.
— Хочу, — мужественно отвечаю я, — чтобы дети, маленькие дети, не играли в куклы с нарумяненными щечками, в бисерных платьицах. У нас уже давно поход против скверных игрушек...
Это все чистая правда. Пионеры объявили такую войну.
Но Мура идет к своей керосинке и грозит:
— Подожди, Мурзилка...
— Правильно, — кричу я ей, — Мурзилка, веселая кукла, а может, и затейница!
Я выскакиваю на улицу, и сразу — праздник. Вдоль Петровки, по Столешникову переулку, по Тверской улице идут пионеры — отрядами, колоннами, стайками.
Первый Всесоюзный слет пионеров, и я делегат. На мне синяя юбка, белая кофточка, красный галстук. На нас озираются все, и, кажется, впервые мы видим вместе с приезжими ребятами Москву.
По улице идут ребята в красных каскетках. Спрашиваю: «Откуда?» — «Ленинградцы».
Навстречу попадаются — в полосатых беретиках, взрослые говорят: «Смотрите, Северный край».
Громко разговаривая, мимо пробегают в матросках одесситы. По правде говоря, в эти дни география с ума сошла.
Вчера и я на Октябрьском вокзале встречала целую дюжину английских ребят вместе с их вожатым — комсомольцем из Англии.
Разглядеть их не удалось. Вся площадь и перрон были заполнены — не продерешься. Но мои цветы передавали совсем незнакомые ребята. Полевые васильки — я так и не узнала, растут ли они, синенькие, с грубыми стеблями, там, на их Британских островах...
Августовские сумерки в Москве неожиданно прохладные. Я еду в трамвае вместе с сормовскими ребятами по всему кольцу трамвая «Б» — по Садовым, обсаженным деревьями. По Садовым, соединяющим далекую зеленую Кудринку с Красными воротами. На трамвайной площадке мы говорим все одновременно. Но все же слышим удивленные восклицания сормовцев.
Потом едем по кольцу «А» от Трубной площади до Арбата. Бесплатно едем. В руках у меня билет делегата, он вроде живой, обещает многое...
В день открытия слета поплыли по улицам, поднятые ребятами, не то игрушечные, не то всамделишные тракторы, заводы, радиоприемники, курица-пеструха с цыплятами. Взрослые бежали за ними и галдели не меньше, чем мы. Приседали. Хлопали в ладоши.
Норвежские ребята, рослые, длинноногие, со сказочными именами «Андерсон», «Ларсен» показывали на плакаты, висящие на домах, вопросительно глядя на нас. А большие слова звучали вслух необыкновенно: «Слушай слет!», «Внуки Ленина»...
Потом все завертелось будто на гигантской карусели: встречи, костры, запуск моделей юными техниками. И запомнилась речь маленького американца — я стояла с ним рядом. А его приятеля Гарри Айзмана там, в Америке, перед самым отъездом засадили в кутузку... Маленького пионера на полгода в камеру! Жуткое и несуразное, из головы не выходило.
Мы умудрились запустить под вечер огромную пионерскую ракету. Десять тысяч ребят на митинге хлопали себя по коленкам, потом били в ладоши, жужжали, и... взрыв!
Над нашим митингом будто вправду взвилась гигантская птица, оглушительная, длинная. Она стремительно появилась и так же мгновенно унеслась.
Но тут я вспомнила о мальчишке Гарри. Сидит он в нью-йоркской камере, а мы здесь так весело взлетаем в воздух, размахивая двумя десятками тысяч рук. Еще хорошо — друзья его добрались и даже захватили с собой смешной подарок — свисток полицейского. Не иначе, в американской делегации был Том Сойер.
Мы повторяли слово «подполье», услышанное от китайского мальчишки. Ничего не поделаешь — там пионеры тайком работали. А совсем недавно, 14 июля, в Шанхае они вместе с рабочими несли плакатик: «Мы против нападения на КВЖД»…
Наступает вечер. Мы привыкли к празднику, и не верится: уже сегодня закроют слет и разлетятся из Москвы все друзья. И, не пожав руки маленького негра, я знаю: он мой личный друг. И английские ребята — они сейчас особенно волнуются из-за лондонского слета скаутов — мои друзья.
Они удивили нас, рассказав, что есть еще на свете принц Уэльский. Он и принимал вместе с герцогом Корнуэльским парад скаутов. Диву давались мои сормовские приятели и я, что скауты ходили на торжественный молебен во славу господа бога и короля. Все вроде бреда, но английским пионерам не сладко. В Англии в тюрьму шестерых комсомольцев посадили за то, что раздавали они листовки против скаутского слета...
Но мы еще вместе — самые разные. И нас ничто не разделяет: ни разноязычье, ни расстояние... Мы идем по Ленинградскому шоссе, на самый большой стадион. Он расположен далеко от центра, за ним совсем близко лесок и деревни.
Идут девчонки в полосатеньких халатиках, у них много маленьких косичек, идут мальчики в тюбетейках — пурпурных и зеленых. Синеглазый донецкий паренек кричит через головы своих товарищей: «Привет Кара-Кумам от советского Рура!» Смеются. И смуглые, раскосые, в халатиках качают головой и краснеют.
Горны. Горны. Горны. Барабанный бой. С самых разных улиц и переулков Москвы выходят ребята в смушковых шапках и шароварах, в расшитых рубахах. Девочки с монистами на шее. И все сливаются в один поток. Рядом оказываются ленинградцы. Они солидно говорят: «Мы выборгские, обуховские...»
Стадной. Вкруг него вереницы автобусов, машин, трамваев. Конные милиционеры.
Мы усаживаемся. Я где-то очень высоко примостилась, на самом верху огромной чаши, и очень боюсь, что потеряемся сразу после этого прощального вечера. Но со мной рядом густоволосый большой мальчишка. Он таращит глаза, серые, чуть выпуклые, и говорит взахлеб:
— Видала, какие счастливчики одесситы. Они шефствовали над пионерами Новой Зеландии.
— Подумаешь, живут у моря, им можно над кем хочешь шефствовать.
Мой неизменный друг Данила привстает, дергает меня за локоть:
— Смотри же!
Но я слушаю. С трибун поднимаются песни — и не различишь, как перемешиваются белорусские с узбекскими, якутские с дагестанскими, русские, немецкие и английские... Мне вдруг хочется реветь, я дергаю себя за кончики галстука. Данила жалуется:
— Поменялся значком с Христианом из Франкфурта, но почему нет полинезийца, хоть самого маленького?
Я понимаю Данилу. Уже давно вместе со мной он примеривается к самым далеким путешествиям. Мне это просто необходимо, дома туго приходится — пора переменить жизнь. Ну, а Даниле надоело ездить на дачу, его даже в лагеря не отпускают, у него душа и заходится.
Сколько раз поздним вечером мы стояли у витрины спортивного магазина, подбирая снаряжение для путешествия в Африку! Не от скуки, нет! Было чувство необыкновенной свободы в те часы. И хотелось немедленно поделиться им с очень далекими африканцами. Про Африку кое-что мы знали.
Очень сильно переживали с Данилкой восстание в Марокко, спорили из-за Абд-эль-Керима — вождя марокканцев.
И еще я очень любила перечитывать книгу Вавилова. Из нее узнала, какая в Африке пшеница: в Абиссинии она черная, и у пшеничного зерна кожица такая же, как у абиссинцев.
Но однажды мы с Данилой размечтались — решили добраться до островов Полинезии.
— Чем дальше, тем лучше! — восклицал Данила. — У него даже брови поднимались от удивления перед далекой Полинезией. И, конечно, не безразличны нам были гости оттуда, с полинезийских островов.
Потом узнала: из особого ража записался Данила полинезийцем. И даже где-то появилась заметка, упоминавшая настоящего полинезийца в числе гостей. Врать было нельзя — я это твердо знала и потому месяц подряд мучилась, но не разговаривала с мнимым островитянином.
Прилепившись на верху чаши стадиона, я смотрела, как там, внизу, все менялось стремительно и мгновенно. Фанфаристы. Вручение знамени реввоенсовета нам — ребятам Московской области. Битва красноармейцев с врагами, прячущимися за дымовой завесой. Все освещали прожектора, играл оркестр — самый звучный, духовой.
И вдруг назвали имя — я его не расслышала, в тот момент я не согласилась с Данилой: он требовал, чтобы мы спустились вниз.
— Надо ж все разглядеть! — кричал он.
Но мы услышали мощный и в то же время поющий голос. Нет, он вовсе не пел — он раскатывал над стадионом слова марша. Марша про меня и Данилу, неприехавших полинезийцев и гостей, добравшихся из древнего и очень обездоленного Китая. Про ребят из Англии. И маленьких туркмен, рязанских, вологодских, смоленских ребят...
За море синеволное,
за сто земель и вод
разлейся, песня-молния,
про пионерский слет.
Я втягивала каждое слово. Гордилась сразу за всю огромную, заполненную друзьями чашу дружбы.
Идите, слов не тратя,
на красный наш костер!
Сюда, миллионы братьев!
Сюда, миллион сестер!
Что-то поднималось из отчаянно стучавшего в груди сердца. И голос был самым сильным изо всех слышанных мной голосов, у меня было чувство, что самый лучший, надежный пионервожатый пришел и говорит со мной про то, что все дни вызванивало в нас и теперь на самом деле случилось. Нас так много, и все мы в одном!
Когда голос взобрался на такую высоту, какую и прожектор осветить бы не смог, мы с Данилой приподнялись со скамей.
Вскочили смоленские, рязанские, туркменские ребята, готовые сейчас же плыть в океан и встретиться с хищными акулами и отстоять маленького человечка с лицом просыпающейся зари.
«У нас большой папаша — стальной рабочий класс». Пророкотав добротой, голос умолк, а мы взорвались. Стучали в ладоши. Топали и кричали. Вскакивали. Смотрели туда — вниз, где стоял большой человек.
Даже сверху было видно: он возвышался надо всеми, кто стоял рядом. С великаньим голосом поэт, с великаньей добротой. С воображением, похожим на наше, ребячье. С сердцем, где мы встретились с китайчонком-кули и просторами океана.
Кто ж это? И что же это все, подаренное нам, в свете прожекторов, в присутствии многих тысяч людей тринадцати, двенадцати и четырнадцати лет? Как зовут его?..
И уже шло снизу имя, повторенное тысячами ребят. Он — Маяковский. Человек-маяк. И имя у него надежное — Владимир.
Горели в ночи факелы, мы стоя повторяли слова торжественного обещания.
Уже прошло куда больше десяти лет. На мне тельняшка и синий китель. Я уже давно не носила пионерский значок — его сменил крохотный «КИМ». Шла я поздней, холодноватой крымской весной рядом с ребятами из батальона морской пехоты. Мы устали и торопились. Путь лежал в Севастополь.
Время позднее, к ночи. Иногда впереди освещали дорогу фонариком. Осветят, подмигнут. И нет света.
Рядом шагал коренастый парень. Говорил шепотом, но бас у него крепкий, даже сквозь сомкнутые губы прорвался:
— Люблю прожектора! — и замолчал.
Почему-то я вспомнила прожектора на стадионе «Динамо». И совершенно обмерла, вдруг услыхав — он ритмично повторял: «За море синеволное, за сто земель и вод...» Опять та же фраза. И опять. Что за наваждение? Ведь это я вспомнила, не он. От усталости, что ли, мне померещилось?!
— Знаешь, — сказал Алексей, — совсем пацаном приезжал я с Донбасса на Всесоюзный пионерский слет. В Москве был, понимаешь? На стадионе «Динамо». Как потом передают по радио матч, чую — мой стадион! Я на нем был еще в двадцать девятом году! И нам здорово читал поэт Маяковский. Сочинял для нас, пацанов, участников слета, не поверишь — специально! «За море синеволное...» Здорово было! Прожектора... Я тогда первый раз обратил внимание: много, много света и друзей... Черт те что! Потом всякое приключалось: стал шахтером, был и на съезде шахтеров. А вот лучше, чем на стадионе «Динамо», не бывало. Море-то синеволное в нас тогда грохотало, в душе — прорва хорошего. Ты что ж, Катя, молчишь? Устала?!
— А где ты сидел там?
— На стадионе? Да не очень удобно, припоздал, так наверху и прилепился. А все равно...
— И я, и я там была.
— Ну?
Алексей удивился, замедлил шаг.
На войне чего хочешь выдюжить можно. Но, если вдруг втолкнется в эту особую и единственную теперь жизнь что-то из давнего, мирного, — задубевшие, мы растапливались. У меня вырвалось:
— И друг мой там был — Данила. Мы с ним семи лет в пионеры записались. И в комсомол вместе...
— Что ж! — сказал Алексей. — Пишет теперь?.. Счастливчики, из Москвы написать можно. А мои все угнаны...
— Данила пропал без вести, в народном ополчении. Ушел с ребятами из Московского университета...
Алексей бурчал:
— Как же так? Значит, с тобой и с Маяковским я знаком с самого двадцать девятого года. Солидный стаж! Между прочим, — сказал он, — между прочим, были у нас на слете немецкие ребята. Я с ними менялся значками. Курт был.
— Странно, теперь все сместилось, — ответила я. — А ведь правда, одного я даже помню. Звали Христиан, из Франкфурта...
— Где же они? — требовательно спросил Алексей.
Я замечала и раньше: если ребята сразу не находили чему-нибудь прямого объяснения, они спрашивали у меня, политработника, так, будто ответ я должна тут же вынуть и положить на стол. Еще хорошо, что мы топали в темени и долго ни о каком столе и речи быть не могло.
— Да вот еще, — сказал Алексей и неожиданно замолчал: он, видимо, устал говорить шепотом.
Вести безобидный разговор втихомолку и вовсе смешно было б, но впереди ждал Севастополь. В него насильно влезли немцы, и мы торопились. Алексей теперь говорил очень быстро:
— Тот самый Курт с очень прозрачной кожей и худыми коленками — они все приехали в кожаных трусиках, помнишь? — Курт этот мне что-то долго толковал по-своему. Я ни в зуб ногой. Он помотал головой сокрушенно и ткнул в «Комсомолку»[1].
Носил он газету с собой, мятую-перемятую, с ее помощью объяснялся, отчеркнул он в ней любопытную заметочку. Правда, тогда она мимо меня скользнула, а теперь вот вылезло наружу.
В курортном городишке с мудреным названием группа немецких скаутов — набралось их там человек за сто — приперла на пляж, распевая «Дейчланд юбер аллее» — «Германия превыше всего» и «Вахт ам Рейн» — «Стража на Рейне». Вывесила банда над прогуливающейся публикой старый немецкий флаг. Их попросили убраться с флагом, — субчики эти выхватили ножи и кинулись на английскую полицию. Я запомнил все как анекдот.
А теперь у того анекдота продолжение даже в Севастополе... Да, где ж все-таки Курт? А?
Двенадцатого мая, в последних боях на мысе Херсонес, невдалеке от 35-й батареи, Алексея ранило.
В самый последний час утра ошалелый гитлеровец пустил пулю в Алексея и бросился со скалы.
Он мог угодить в меня — я бежала рядом с Алексеем к батарее. К бывшей батарее.
Два огромных ствола ее, взорванных еще нашими при оставлении Севастополя, будто окликали нас. Два огромных, сведенных вместе пальца вдавились в небо. И мы бежали к ним.
Алексей упал. Я пробовала перевязать его, плохо получалось. Руки дрожали. Он потерял сознание, я разрезала на нем гимнастерку, тельняшку. Он открыл глаза и сощурился:
— Не бойся, Катя. Пришли. Со стадиона «Динамо»... Море синеволное... Порядок, Катя...
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





