ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна

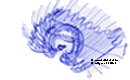
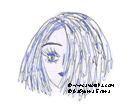
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Захарова Вера
ГЛАВА 13
В детстве ей часто снился этот сон. Она боялась его даже больше, чем мертвецов и вампиров: сны с мертвецами, конечно, ужасны, но, просыпаясь, она могла утешаться мыслью, что умрет еще не скоро. Она боялась, что он приснится, и он снился. Будто они шли с мамой по какому-то пустырю, желтая серая трава, выбоины, хлам. Был туман не туман, дождик не дождик. Туман сначала полз клочьями, потом становился гуще и гуще, не видно ничего, кроме мертвой травы и консервных банок. Она теряла маму. Мама была тут, рядом, она шла, уверенная что сейчас возьмет ее за руку. Мамы не было, она шла. Наконец теряла уверенность и просто шла куда-то. В тумане не видела ничего. Он был плотен, как вата, плотен, как стена, и в то же время бесплотен, она была впаяна, вмурована, поглощена. Шла, протягивая руки, и упиралась в твердое. Стена. Серый камень. Он сливался с туманом и не кончался ни влево, ни вправо, ни вверх. Серая поверхность, но это был камень, твердь: пальцы чувствуют, а глаза не видят. Она поворачивала назад. С вытянутыми вперед руками, по серой траве. Пока руки не упирались в твердое — та же стена! А может, другая? Она оглядывалась назад: туман... Она отрывалась от стены и шла влево. Вытягивая руки вперед. И упиралась в ту же стену. Она отрывалась от стен и шла назад. В конце концов она стояла в тумане, не в силах сделать ни шагу. Она была в каменном мешке. Этот ужас не сравнить ни с чем. Она просыпалась, в комнате было темно, и комната была тем же замкнутым пространством. Она была в ней одна. За стеной спала мама, но маму нельзя будить. Она любила день за то, что все в нем четко и неразмыто. Туманы бывают редко, и она не бывает одна. В детстве ее очень утешало, что одиночество — только призрак. Конечно, ночная тоска являлась бледным отражением и наяву. Но это было слабо, как дыхание на зеркале: таяло, и прояснялась она сама — извечный порядок вещей.
Впервые силу этой ночной тоски она пережила наяву, столкнувшись с любимым человеком, с Глебом. Их первые годы: мука и невозможность ничего знать о другом. Потом это прошло. Что она знала — то знала, а другое и неинтересно знать; такая же чепуха и дрянь, как в любом человеке. И она посмеялась, как над детскими ночными страхами. Другое — было к маме, после ее смерти. Когда выяснилось, что она не знала о маме ничего. Она разматывала нитку по сантиметру, помня лишь то, что помнила. Если бы она тогда не закрутилась, приехала к маме. Она не подумала, что мама больна всерьез. Мама ушла от нее во сне, как когда-то во сне... Это было страшнее, чем с Глебом, когда она мучилась понять. Уже нельзя было изменить: смерть — вот что это было такое, бесцельное мучение о живом человеке, которого уже нет в живых, и только твоя дурацкая память толчется на одном и том же, не способная ни осознать, ни смириться. Но ведь притерпелось с годами, умерло, не мучит почти. Почти что сон, и стерлось из памяти как сон. И вот теперь с Мариной... Поменялись сны, поменялись роли, она теряет Марину во сне, как когда-то маму. Теряет больше, чем себя: теряет смысл самой жизни. Просыпается и плутает в той же неизвестности. И все перевернулось вниз головой, как в карточной фигуре или в воде: призрак, что ты живешь с людьми, но ты один, один. Люди теряются и умирают наяву. Во сне ты все еще с ними. Призрак, что ты знаешь о другом, не о себе. Призрак, что есть близкие, если ты билась понять любимого человека и отступилась, привыкла — стена. Если о матери ты не знала ничего и уже не узнаешь. Если дочь ушла, разорвав твои представления, исчезла наяву... Только во сне ты бываешь с людьми: они поняты и ты понята. Карточная фигура, две жизни. Удивительно, что ты мнишь себя с людьми, когда поднимаешься на свой этаж, в лабораторию. Там будет группа людей, которые называются твоим коллективом. И ты останешься среди них одна. Ты сделаешь вид, что они нужны тебе, что вы делаете общее дело: заставишь себя сделать что-то, чтобы только не думать, не помнить о дочери. Ты сделаешь вид...
Она сделала вид, что ее интересует новая кофточка Каурцевой, которая не пошла полноватой Лерочке. Серебристая японская кофточка, как рыбья чешуя. Лерочке достала знакомая на складе. Каурцева с выщипанными бровями, с рыжей прической по плечам, в новой кофточке. Все делают вид, что Каурцева в ней очень эффектна. У Каурцевой вкус, и куда же она смотрит, если не в зеркало? Или берет кофточку для знакомой, будто бы для себя? Нина Сергеевна говорит:
— Она только для вас, Светлана Ивановна,— не вздумайте продавать...— и думает про себя, что кофточка пошла бы юной тоненькой девочке, ее Марине.
Каурцева высокомерно сверяется с зеркалом через плечо:
— Вы думаете? — Она с сожалением вздыхает:— Нет, Лерочка, вы зря меня утешаете, я в ней слишком плоская.
Лерочка машет руками: ну что вы, вы в ней девочка совсем.
Каурцева мотает прической по плечам: нет-нет, она же видит и оживляется:
— Нина
Сергеевна, а вы? Вам пойдет, уверяю
вас!
Нина Сергеевна еще более худая,
чем Каурцева, ей не пойдет, и та это
знает. Нина Сергеевна отказывается
примерить, но Каурцева не отступает:
— Ну, а Маринке? Сорок шестой размер, будет прелесть! Точно-точно, Маринке, вот кому пойдет, и как я раньше не догадалась! — То ли действительно ничего еще не слышала о несчастье, то ли прикидывается? Хотя как не слышала: Яна наверняка разболтала.
Теперь все о Маринке и о кофточке — ну и сволочь Каурцева! Зачем же она так? Нина Сергеевна мрачнеет; у нее нет денег, сухо говорит она. Оживление меркнет на лицах, всем, видимо, не по себе. Чувствуют, что у нее неладно в семье, догадываются — тут и слышать не надо, по ней видно, по ее настроению. Спасибо хоть не расспрашивают, не соболезнуют вслух — тактичны по-своему.
Но какова Светка! Что она, действительно сдуру спросила, от неведенья? Или это намек, издевка? И можно ли смеяться над горем — что тут веселого...
Возможно, она отбила когда-то Глеба у Каурцевой, хотя Глебу Светка не нравилась никогда. Впрочем, нравилась. После... Ее замужества, вот чего Светка не могла пережить. Но почему эта гадина не может оставить ее в покое до сих пор, какие счеты у них теперь, что она никак не забудет?
В прошлом году, когда приезжал отец, возник этот разговор с Глебом. Она была взвинчена Мариной, отцом, бесплатными собачьими костями Рохляковых. Те «умели жить», и Марина ставила в вину матери. А тут, как назло, Глеб поздно явился. Нина Сергеевна лежала скорчившись под простыней и нервничала: завтра она опять рано проснется, а сегодня вот не может уснуть, ожидая Глеба. Не то чтобы она ждала. Просто мелко раздражалась, растя в себе напряжение: вот-вот он явится, все равно ее разбудит звонок или шорох поворачивающегося ключа,— и тогда она тем более не уснет. Это было в манере Глеба. Он так и не привык считаться с чужими нервами, и потом, когда он вытягивался рядом с нею и мгновенно засыпал, как бросался в прорубь, она еще хуже мучилась, боясь шевелиться и будить его,— лежала с пустыми глазами в темноте, и всякая чушь лезла в голову. Поэтому, когда Глеб заскребся в дверном замке, Нина Сергеевна позабыла свое решение поговорить с ним о распоясавшейся дочери, а помнила и пестовала только свою бессонную злость. Нина Сергеевна слышала, как он долго и медленно открывал дверь, как трусливо шел на цыпочках по прихожей, опрокинув там что-то и шепотом чертыхаясь. Как возился в ванной и жевал в темноте на кухне. Наконец он зашуршал возле кровати, стаскивая свитер.
— Я не сплю,— шепотом сказала Нина Сергеевна и, помолчав, добавила:— Отец приехал...
Глеб бурчал что-то яростное, возясь с брючным ремнем.
— Тише!— прошипела Нина Сергеевна, когда он улегся рядом, заскрипев всеми пружинами. Ее обдало винной волной, а Глеб охал, вытягиваясь и укладываясь.— Где ты был, кстати?— отчужденно спросила она.
Он еще поохал, мыча невразумительное, и, изобразив нежность, придавил ей рукою шею: «Ох, ласточка, не сердись, пожалуйста...»
—...понимаешь, еду в автобусе, впереди какая-то баба сидит, похожа на Рохлякову, ну, думаю — ка-а-рова — про бабу, а заодно про Рохлякову, думаю, ну, корова, обещала же быть в Иркутске, там какие-то деньги лежат, так чтобы я еще за ними ходил... Смотрю на бабу и думаю про Рохлякову: ка-а-рова!.. Представляешь, баба оборачивается, а это Рохлякова и есть. Ужас!
— Ну и что ты этим хочешь сказать?
— Ничего... Я тебе говорил, Рохляков уехал на БАМ со студентками.
Нине Сергеевне делается противно. И хотя она прекрасно знает, что Глеб в данном случае чист, и хотя ей в общем-то все равно, если бы и нечист, она все же говорит ядовито:
— Может быть, инициатива тебе принадлежала, а не Рохлякову? Студентки — это, по-моему, твоя слабость.
Глеб не шевелится, опешив. Потом взрывается с полным правом: «Да что ты говоришь?!» И понеслось, поехало. «Ты прекрасно знаешь...» — «Ничего я не знаю, и знать не хочу!..» — «Дай мне уснуть, имей совесть...» — «Нет, погоди».— «Да тебя даже дочь не удержала, когда тебе надо было закрутить свои...» — «Ты, пожалуйста, Марину не трогай, ты вообще был бы счастлив, если бы ее не было...» — «Ну да, твой любовник...» — «Может, ты хотел бы еще, чтоб я осталась тебе верна до гроба?..» — «Да если бы ты тогда не спуталась...» — «Да если бы я тогда не спуталась, я бы повесилась!»
Но все это настолько известно. Никакой Валерочка давным-давно не волновал Глеба, точно так же, как Лидки и Светки не волновали Нину Сергеевну. И любовь, и верность, и ненависть — все это в глубоком прошлом, что и не верилось уже. А в более близком — только привычка и, наверное, жалость к себе и к нему и страх эту привычку потерять. Да еще дети... А в настоящем — лишь совместное прозябание, и оба знают, что никакая сила не в состоянии их растолкнуть, потому что давным-давно они спелись, как ни смешны при взаимном освещении. И только старшая, Марина, с насмешливым недоумением взглянет иногда: что связывает мать с отцом? И неужели они, пара этих комиков, были когда-то девушкой и парнем, возлюбленными? В тот вечер, лежа в постели и переругиваясь шепотом, гальванизируя какие-то небывшие абстракции ревности и любви, они оба знали мотивы и побуждения друг друга, собственные ничтожные выгоды: она — что бесится, потому что долго не уснет; он — что, намереваясь застать ее спящей и самому поскорей уснуть, тянет эту лямку разговора и тоже не выспится. Обоим надоело и стало скучно, и Глеб, повздыхав еще некоторое время, уснул. Его сосредоточенное лицо, самоуглубленное во сне выражение, словно он решал мировую проблему, были ей невыразимо противны, а способность засыпать — потрясающа. «Случись сейчас землетрясение,— думала Нина Сергеевна,— он бы точно так же поорал и уснул безмятежно». И неужели из-за этого человека с помятым лицом и вялой кожей, седеющего и лысеющего, она так мучилась когда-то? На пятом месяце беременности у нее подскочило давление, и ее положили в больницу. Глеб, обычно злой и раздраженный, страшась загса, но не в силах оставить ее, тут вдруг струхнул не на шутку, взял зачем-то такси, словно она при смерти, а в приемном покое требовал вызвать врача. Приемная сестра потеряла терпение и хотела их выгнать. Глеб извлек направление. «И все-таки, чего вы хотите?— спросила сестра.— Проводите жену, потом и будем разговаривать». Глеб показал: так вот она! жена... Сестра смерила их таким взглядом, словно обоим место в исправительной тюрьме и сейчас потребует паспорт и свидетельство о браке. Она действительно потребовала паспорт. Но и убедившись, что будущая мать уже совершеннолетняя (или что там ей нужно было в паспорте?), сестра поглядывала, поджав губы, с видом оскорбленной добродетели, а Глеба стала почему-то называть «гражданин». Нину повели, Глебу отдали ее вещи. Ей было страшно: раз нет штампа о браке... Через десять дней должны были выписать, но утром на обходе измерили давление и не выписали. Нина этого никак не ожидала; начиналась зимняя сессия, ей совершенно незачем лежать в больнице. Но это никого не интересовало. И тут некстати пришел Глеб с одеждой, Нина расплакалась, а он почему-то обрадовался, что не выпишут. Она лежала на втором этаже, Глеб стоял внизу, оба надрывались, крича какую-то чепуху. Глеб счел нужным прокричать, что с комнатой в общежитии ничего не вышло (он как раз ее добивался), потому что они не зарегистрированы. Нина уже за одно это готова была его убить: теперь вся палата была посвящена, что она не замужем. А кто-то Глебу сказал, что если она вовремя не сдаст хвосты, то до сессии ее не допустят. Глеб ушел, она бросилась рыдать в подушку. Резусная с соседней кровати попыталась ее утешить, с ней сделалась настоящая истерика. Они не имеют права, кричала она, ее выгонят из-за них из института. Все равно она убежит ночью, спустится по простыни, вот муж принесет одежду. При слове «муж» бабы ехидно заухмылялись, а Нина заголосила так, что слышно на улице. На вой сбежался весь роддом, решили, что начались преждевременные роды. «Сколько же тебе лет, что ты так безобразно себя ведешь?» — спросила врачиха. Ей девятнадцать уже, это ни при чем: у нее сессия! «Вот и надо было об учебе думать, а не замуж выходить...» Она перестала плакать, но впору было умереть — и вправду было жаль, что роды не начались, и она не умирает. От унижения, от боли, от стыда, что она здесь, незамужняя. Не только из-за сессии, нет, совсем не из-за сессии. Из-за того, что Глеб ушел такой веселый. Он обрадовался, что ее не выпишут, теперь это было ясно как день. И может быть, он больше вообще не придет. Она перебирала всех девиц в институте, к которым мог отправиться Глеб — выходило, мог отправиться к любой. Особенно к Лидке! Еще на первом курсе, когда она бегала к ней за конспектами, еще когда у них с Глебом только начиналось, он уже бил клинья Лидке! Лидка может, она такая... «опытная»... И потом, она смазливая, хотя что в этой лошади находят, Нине сроду не понять. И вот она представила, как Глеб у Лидки, а может, с парнями договорились в чьей-то комнате, они так не раз делали. И может быть, даже скажет Лидке, тяжело вздохнув: «Ты знаешь, я чувствую себя сволочью. Нинка в больнице, а мы...» А Лидка, оскорбленная, что вспомнили вдруг про Нинку, конечно, ответит: «Можно подумать, что твоя Нинка при смерти, от этого еще никто не умирал...» Почему-то ей представлялась именно такая картина: Глеб со своими угрызениями на голом Лидкином плече. Что Глеб все-таки пожалеет ее, она верила, тем более что он любит угрызаться после. Но угрызения ничего не изменят и не оторвут его от Лидки или еще от кого-нибудь, к кому он теперь ушел. И больше его неверности, больше страха его навеки потерять ее мучила и сводила с ума именно эта картина: Глеб в полной прострации курящий в потолок, как некогда с ней; говорящий о ней с другой, как бы угрызающийся и сам в это время верящий, а на деле... А на деле просто пресыщенный, самодовольный Глеб, как некогда с ней изобретающий причину. После регистрации это наваждение не переставало мучить, напротив: Глеб был теперь как бы в законном праве ей изменять, а изменив, угрызаться на чьем-то плече. И лишь о Светке она никогда бы подумать не могла: она была уверена, что Светка ему не нравится. Он часто подшучивал над Светкой, и до, и после, говорил, что она пигалица, что с такими ногами, как у нее...
Даже теперь, после стольких лет, внезапность той боли в тот давний злосчастный час, когда Светка ей вдруг обо всем рассказала, и ее собственная унизительная беспомощность, смешное жалкое удивление («Но почему ты, с какой стати? Ведь ты ему никогда не нравилась...»), и Светкина снисходительная улыбочка — даже теперь это терзало не столько ревностью, сколько обидой: вот искренняя змея, наперсница, подколодная подруга. Не то чтобы она не ожидала от Светки,— а как бы это сказать?— не подозревала в ней такой потенциальной способности: Светку много обманывали, ее мог практически обмануть любой — значит, она как бы не могла обмануть Нину. Смешное представление.
Все это влияло как-то и на Марину: дочь видела, что у матери нет подруг, что отношения с людьми натянуты, ненатуральны, что отца часто не бывает дома. В девочке проявлялся ранний цинизм.
В шестнадцать лет Марина могла матери ляпнуть: «Какая интересная дама. Ты не находишь, что она нравится отцу?» (Это после той вечеринки со Светкой и с Рохляковым.) Марина говорила как бы нечаянно, неумышленно, в тоне наивно-грубых, подростковых шуточек, когда ребенок изо всех сил стремится встать на одну доску со старшими, что выглядит часто как неуклюжее хамство, впрочем вполне невинное. Но у Марины это выглядело не так уж невинно. Или как дочь выразилась в другой раз о Светке: «Вы так с ней взаимно-любезны, словно она — твоя соперница...» Эта странная проницательность дочери ужасала: мерещилось, Марина что-то больше знает о Светке и об отце, чего даже она, Нина Сергеевна, не знает, что у Глеба и Светки опять что-то происходит, длится... И тут же старалась закрыть на это глаза: да нет, Маришка просто неуклюже хамит, у дочери переходный возраст, который она так трудно переживает.
Или Марина уже тогда исходила из какого-то своего, личного опыта?
ГЛАВА 14
Галя-маленькая, порозовевшая и бодрая после обеда, льнет теперь к Воробьеву.
— А какие тебе нравятся, брюнетки или блондинки? Брюнетки, говорят, темпераментные...
Это не то робкое, собачье, заискивание, как с женщинами, это — заигрывание. Воробьев ей не нужен, конечно,— просто хочется пошутить, почувствовать себя полноценным человеком в коллективе. Что-то наивное и жалкое есть в ее попытках казаться женщиной. Мятая юбка и растянутый свитер, однако губы накрасила, волосы обесцвечены до какой-то мертвой желтизны. Из-за юбки и свитера, из-за опухших глаз и осипшего горла чувствует как бы недостаточность своих чар — и с лихвой восполняет развязностью и крепкими матерками. Но и матерится словно застенчиво, наивно, скороговоркой проговаривая мужицкие лютые словечки.
Воробьев в ответ на ее речи снисходительно-груб, лениво поддерживает игру на этом же уровне:
— А ты, Галка, парик себе черный купи — тоже будешь темпераментная. Тебе, между прочим, пойдет,— и ржет ласково и презрительно, оглядывается на женщин, ища сочувствия.
Но женщины заняты своим и не обращают на них внимания.
Галя-маленькая, Наталья Чижова, проводница из Марининой компании, пьяные ханыжки на вокзалах, сколько их. Были девушками, женами, матерями. И Марина — где-то там, с ними. Не рядом с матерью.
А может быть, началось все в восьмом классе, когда Марине объявили бойкот. Дочь была слишком высокомерна с подругами, и с ней неохотно дружили, особенно в старших классах. И потом, она нравилась мальчикам, девочки этого тоже не прощают. Марина дружила тогда с Олей, и Нина Сергеевна не противилась их дружбе: девочка милая, скромная. В старших классах Марина стала какой-то неуживчивой, часто меняла подруг и все выбирала поглупее себя. Все началось из-за Андрюши, этого вербного херувимчика, первого мальчика в классе. Девчонки в таком возрасте очень падки на мальчишечью красоту, влюбляются только в красивых. И Марина, и Оля тоже, конечно, заглядывались на Андрея — потому хотя бы, как язвительно и постоянно говорили о нем, как порицали других девочек и как были наблюдательны и ревнивы. И вдруг ревность вспыхнула уже между ними: то ли с Олей, то ли с Мариной Андрей заигрывал, отбирал портфель на уроке. А может, с обеими заигрывал. Подруги немедленно нашли повод, чтобы поссориться. И тут с новой силой расцвели девчоночьи интриги, на сцене появилась Клюева, мерзкая девчонка, невероятная ханжа и сплетница, и Марина с ней стала дружить. Всплыло еще некое письмо, в котором якобы Андрей предлагал Оле дружбу (писали его, конечно, девочки, но кто — неизвестно). А Марине всем классом объявили бойкот.
Нина Сергеевна тогда была занята, на работе опытная установка не шла, Юдин уволился. Некогда было вникать в дурацкие Маринины проблемы, тем более что Марина была виновата сама. Она видела, что дочери не по себе, что тяжко ей, но решила ее немножко проучить:
— Если уж поругалась, так имей силы переносить одиночество. Или мирись.
Дочь с безнадежностью отвернулась:
— Нет, мириться я не буду.
Вот и весь разговор. Неужели она неправа была тогда? А через месяц Марина нашла себе новую подружку.
С Олей так и не помирилась.
Дочь была честнее: не тянула ложных отношений, как ее мать.
Когда же это все началось?
Тогда уже была Марина, ей было полтора года. Глеб, завалив сессию, еще с весны уехал в тайгу бить шурфы, работать канавщиком. Это у него называлось «повариться в гуще». Он все готовил себя для свершений, поэтому набирался «воздуху». С Глебом у них был первый в жизни штиль. («Ну конечно, милый, я тебя понимаю... Если бы не Марина, я бы тоже с тобой поехала».) Марина была у свекрови. От Глеба приходили на редкость бодрые письма, литературно написанные: «Я вчера ходил в лес с ружьем и пробродил там до вечера. Представляешь, дурак позорный, ружье зацепилось за сучок — значит, я со взведенным курком ломился сквозь стланик. Да еще заблудился. Чувствую, что-то не так. Смотрю — курок на взводе. Позорный дурак! Но, малыш, наконец-то чувствуешь себя человеком! Как подумаешь, что возвращаться в город, где вся эта шушера! А я иду по тайге, по тракторному следу, а кругом сосны и тишина!..» Нина читала и улыбалась.
Со Светкой они готовились к зачетам, и иногда Нина, не в силах молчать, заводила разговор о Глебе. Как бы исподволь, небрежно. Она давно убедилась, что Светка в Глеба не влюблена, так что никаких особенных мук у нее не было. Просто Светка слегка презирала его, и Нина понимала, что подруга, пожалуй, права: Глеб с его кедрово-таежными заскоками был смешноват порою. Поэтому начинала разговор как можно равнодушнее, боясь, что Светка начнет высмеивать Глеба. Они сдали первый зачет, у Светки был день рождения, и они, выпив немного, разоткровенничались, сидя на одной кровати. Они говорили о Глебе, как он там в тайге бьет шурфы и ходит по тракторному следу. На удивление, Светка не издевалась, поэтому Нина совсем растаяла: что ни говори, а неприятно, когда над любимым человеком подтрунивают посторонние, ведь его слабости ведомы только тебе. Вспомнили, как Светка в свое время забыла сумочку и что, может быть, это все и решило, Глеб стал мужем Нины, а не Светки. «Ну! Он еще всех наших обскачет,— говорила Светка,— в нем есть что-то такое, настоящее. Злость, может быть».— «Вот-вот, злость,— обрадовалась Нина,— точнее, уверенность в себе...» — «А помнишь, через полгода,— сказала Светка,— ты уезжала хоронить мать...» Да, Нина помнила. То страшное чувство вины и одиночество. Даже Глеб был чужим, и как тяжело, неприятно было отвечать на расспросы... Она прослушала, когда Светка пролепетала ей это. Она не хотела... Глеб нашел квартиру... Ну да, у того же Тольки... До нее наконец дошло: он спал тогда со Светкой, Толька нашел им квартиру... Ну и что? Она не в состоянии осудить ни того ни другую. Но зачем ей рассказывать об этом? Это была боль, которую не понимаешь вначале. Не чувствуешь. Светка лепетала, вспоминая подробности. Даже всплакнула от раскаяния. «Но почему?..— начала Нина.— Почему ты мне об этом рассказываешь?» Но Светка перебила, поняв по-своему: «Но ведь ты знала, он мне давно нравился. Тогда еще, когда с сумочкой... Но ты не должна обижаться, я так мучилась потом. Я сказала: ты любишь Нинку, поэтому больше — ни-ни...»
Было темно, и поэтому странно, что она помнит выражение Светкиных глаз. Или светофор загорался на улице? Это было не злорадство, не ревность. А любопытство. Вот именно: страх и любопытство, как она это воспримет. Страх и какое-то детское, наивное и поэтому жестокое любопытство. Как у ребенка, когда тот отрывает лапки жуку и жалеет его, конечно... «Ничего нет хуже раскаяния,— подумала тогда Нина,— ничего нет грязнее...» Но и это было не совсем так. Они остались дружны со Светкой и дружили еще полгода. Кто из них больше себя побарывал? Нина ли, заставляя себя прощать Светку, или Светка, заставляя себя угрызаться перед Ниной? Тем более что Светка не чувствовала себя виноватой, а Нина не чувствовала себя вправе обвинять ее. Но те подробности, что сорвались с пьяного Светкиного языка, они были, как Нина ни старалась не помнить, и вдруг в какую-то одну из минут с Глебом все всплывало, она не могла отогнать, и тогда все умирало в ней. Тогда она была не собой, а Светкой, плоскогрудой Светкой с ее востреньким носиком и веснушками на плечах и груди, и Глеб все это видел и разглядывал. И она, это она хохотала тоненьким Светкиным смехом, и Глеб подхихикивал, голый, чужой, словно был Светкин муж, а не ее. И днем, видя Светку, вдруг все это взрывалось с отчетливой ясностью, и тогда она Светкиными глазами видела голого Глеба. Да что тут говорить! Через полгода они поссорились из-за пустяка, но какое это было облегчение.
А ее собственный грех, Валерка, был уже потом, после Светки. И напрасно Глеб исходил возмущением — это все равно бы случилось, обязательно, не с Валеркой, так с другим бы случилось, потому что не могла она больше под Глебовым игом и не Глебу, так себе должна была... Но, отомстив Глебу, она неожиданно влюбилась в Валерку и первые полгода ужасно мучилась. Постепенно их отношения превратились в странную полусемейную связь, со всеми уродствами и комплексами, сопровождающими любую подобную связь — слишком непрочную для семьи и слишком затянувшуюся для романа. И чем больше привыкал к ней Валерка, тем с большей прохладцей и даже насмешливостью она думала об их любви. К тому же, привыкая, Валерка страстно усложнял ей жизнь мелкими капризами. Их связь была обречена, ей просто не хватало духу вовремя порвать. Будь она пожестче, не было бы ни этой тихой ненависти, ни взаимного изуверства и, наконец, почти непотребного чувства облегчения и злорадства, когда они вдруг опять помирились с Глебом и Валерка остался, ущемленный за бортом ее судьбы. Потом, когда прошли годы, она вспоминала о Валерке даже с нежностью, но что удивительно, никогда не каялась в отвратительном их разрыве. Словно предчувствовала, что не пострадай тогда Валерка, пострадала бы она, и гораздо больнее и подлее. И никогда не каялась, что был у нее этот роман.
С Валеркой они тоже заканчивали институт, учась в параллельных потоках, и пять лет виделись чуть ли не каждый день. Но разглядели друг друга после института. Это был период особенно острой ненависти к Глебу и непрощенной обиды. Предыдущий бурный их разрыв не успел зарубцеваться, и, хотя Глеб вроде бы жил с ней, ел ее суп и забирал по вечерам Марину из сада, все помыслы Нины Сергеевны были обращены только на то, как бы отомстить Глебу «с кем угодно». «С кем угодно» она грозилась ему всю их жизнь, и случаи к тому, конечно, бывали. Но опять та же роковая довлеющая роль Глеба. Неверно было бы думать, что она видела в муже единственного мужчину, наделенного всеми земными достоинствами. Как бы не так! В большинстве случаев она стыдилась за Глеба — стыдилась его хвастовства, его затаенного себялюбия и ложной самоуверенности, стыдилась его роли рубахи-парня, которую он постоянно разыгрывал, и того, что он казался себе здоровым мужиком, хотя на самом деле был обыкновенный человек с обыкновенным сложением и трусил там, где, ему казалось, поступает по-смелому. Выручала его вечная ухмылка и обмороженные глаза. Стыдилась она даже его вроде бы успеха у девиц: его наигранное нахальство и петушиные прискоки с распущенным крылом и манера говорить о женщинах гадко и грязно мерещились ей той же скрытой трусостью, неосознаваемой им вполне. К тому же зачем разыгрывать из себя Соломона с тысячью наложниц, когда с одной-то женщиной не можешь обойтись без того, чтобы не играть в страсть, которой у тебя в помине нету? Однако все это ей нисколько не мешало любить Глеба. Ей казалось, только она одна и знает его внутреннюю слабость, только с ней он бывает действительно искренен и нежен — а с другими все внешнее. И в те минуты, когда он плакался в манишку, когда особенно был жалок и слаб, он становился ей еще дороже. Но едва он поднимал гребень и распускал хвост,— тут она его ненавидела от души. И тогда, особенно измучившись, она вдруг пускалась в компании на первый попавшийся флирт: танцевала и улыбалась одному парню и придумывала в нем разные достоинства по сравнению с Глебом. В период такой ненависти рядом с Глебом любой выигрывал. Ведь она была не безобразна, не ущемлена, не фригидна — так с какой же стати? Но тут всегда убийственно срабатывала реакция Глеба. «Да, красивый парень,— говорил он о ее поклоннике,— только вот с бабами ему не везет...» И рассказывал какую-нибудь омерзительную историю.
И только с Валеркой Глеб как-то потерял свою бдительность. Случилось так, что она обещала быть с Глебом на дне рождения у одной сокурсницы, но он уехал в командировку, и Нина пошла одна. Тогда еще было непривычно, что после небольшого перерыва все понемножку изменилось. Валерку она едва узнала — такой у него был чопорный и повзрослевший вид. За столом натянутость вроде прошла, и перед чаем даже горячо заспорили, она хорошо запомнила этот спор. Она, помнится, тоже что-то расхорохорилась и даже защищала очень странную мысль, что талант талантом, а инерция известности, молвы, приспособляемости таланта к определенному кругу, течению, времени играют куда большую роль. В пример она, кажется, приводила Алкивиада, греческого правителя, о котором читала что-то у Плутарха,— толпу и тирания восхищала, и предательство — не только демократия и справедливость того же Плутарха. Да нет, она не защищает картавого красавца-тирана, это Плутарх так пишет: зло может быть обаятельно, приятно, красиво.
Над Ниной Сергеевной посмеялись слегка. Она смутилась и неумелую свою аргументацию оборвала на полуслове. И чтоб не выглядеть еще смешнее, ушла помогать хозяйке заваривать чай. В полутемном коридоре они столкнулись с Валеркой. Он вроде бы очень понимал ее и сочувствовал: с кем она собралась спорить, приспособленцы. «Пойдем лучше погуляем»,— сказал Валерка, и она была ему благодарна. На улице ей хотелось продолжать об Алкивиаде, но как-то все само собою отпало. Пахло тающим льдом, бензином, и весенняя антрацитовая чернота заполняла город, как паста. «Мы же химики,— усмехнулся Валерка,— технари...» И в этом вроде бы такая гуманитарная грусть и взаимопонимание. Когда он вдруг обнял ее, она хоть и обалдела попервости, но думала потом, вроде бы тоже было понятно — такое родство душ. Она смутилась, что-то сказала, что говорят в подобных случаях,— голос был напряженный, и непринужденность у нее не получалась. Что, мол, все это в шутку, оба же они понимают. Возможно, это и сыграло роль: для нее было дико, и она не знала, как себя вести. Кроме Глеба, ее никто не обнимал. Они были уже не дети, вот что изумило ее тогда, не детские глупые объятия просто так, а мужчина и женщина. Но за чаем (они-таки вернулись к чаю) она уже поглядывала на него другими глазами. Среди прочих здешних Валерка смотрелся: высокий, гораздо выше Глеба, и шире в плечах. И узкое его неправильное лицо ей тоже понравилось — умное. Валерка болтал о чем-то с Тавянским вполголоса и нет-нет косился в ее сторону, словно убеждаясь, что она все еще здесь.
Когда вернулся Глеб из командировки, Нина была уже совсем другим человеком. Поэтому ее просто потрясло, что Глеб словно бы ничего не заметил. Ей даже подвох мерещился — это он что-то затевает, и, может быть, специально, чтобы унизить ее,— мол, было бы из-за чего терять спокойствие. Вся она превратилась в сплошное ожидание, вроде бы тоже внешне спокойная, но каждую минуту готовая к этому разговору: на его невозмутимую насмешку — ну, мол, и как твои любовные успехи?— ответить, что успехи очень даже ничего. Но Глеб продолжал разыгрывать свою роль безмятежного мужа. Да что он о себе воображает?— уже бесилась она. Впрочем, она много уже чего насочиняла о Глебе, это было ее очередное сочинение. На Майские праздники они пошли к их общим знакомым, этакая нежная любящая пара. Там был и Валерка, скорее всего, из-за нее, потому что раньше он в этой компании не появлялся. Глеб его не знал, и Нина их познакомила. Сам по себе маскарад был отвратителен: Глеб улыбался наглой улыбкой собственника, а Валерка весь топорщился в какой-то ненормальной чопорности. «Твой сокурсник ничего,— сказал Глеб с обычной своей ухмылочкой,— но какое-то чересчур постное выражение. По-моему, у него глаза импотента...» И то, что Нина почувствовала, было одновременно и злорадством, и презрением к Глебу, и облегчением, что наконец-то вышла из-под его власти, и еще что-то, похожее на детское разочарование: пророк-то оказался липовый. «И всегда он врал»,— мелькнуло у нее. А вслух она сказала неприязненно: «И что у тебя за манера говорить о людях гадости?» Но какая-то тень боязни осталась. Она словно бы ждала все, что еще такого может сказать про Валерку Глеб, что навсегда уничтожило бы Валерку в ее глазах. А Глеб как-то неожиданно скис. Вся крепостная стена ее спокойствия оказалась просто глупостью, когда дома он грубо спросил: «Он что, твой любовник?» И опять ей показалось, что он ее разыгрывает, что это в нем такая утонченность садиста говорит — кто же спрашивает об очевидном? Леденея от ненависти, она ответила: «Да, представь себе!» Он ударил, а в ней словно что-то прорвалось: вцепилась, и кусалась, и царапалась, и дергала его за волосы. Вроде бы и шипела как кошка. Потом оба смотрели друг на друга с каким-то изумлением: неужели до этого у них дошло? «Значит, мне уйти?» — спросил Глеб. «Ради бога, уходи, сил моих нет...» И он конечно же никуда не ушел, и до утра они развлекали друг друга всевозможными оскорблениями. Вечером следующего дня Глеб сменил тактику: теперь это были чувствительные ноты о том, что они живут пять лет, что у них дочь. Что он, видите ли, все ей простит. («Да как ты смеешь? Я тебя видеть не могу, что ты еще можешь мне прощать?») Что она единственная женщина, в которой он видит жену и друга — она ни единому его слову не верила. И потом еще были оскорбления и взаимные истерики. Когда Глеб и впрямь уволился и уехал с какой-то экспедицией, она боялась верить и впервые была благодарна Глебу за все пять лет.
ГЛАВА 15
Пусть бы завтра поставили вопрос об ее увольнении, а сегодня собраться и уйти домой. Придумать что-нибудь. Пусть они все делают что хотят: вяжут, встанут в очередь в гастроном за баночной селедкой, организуют в рабочее время курсы кройки и шитья. В сущности, они все ей безразличны, что бы ни говорили о спайке коллектива, о том, что жить его интересами. Она ничего о них не знает, кроме того, что они предлагают как версию о себе, или то, что всплывает в ссорах или заглазно, когда на кого-то злы. В этом нет истины. В действительности она знает только, кто из них ленив и ходит на службу, отбывая повинность, кто любит подольститься и сказать приятное, кто, напротив, мнит себя независимым, отказываясь сделать пустяковую работу, хотя потом поставят на трудную, но зато чувство собственного достоинства будет отомщено. Эта каша самолюбий, и ребяческих обид, и ничтожных ЧП еще недавно и казалось ей тем, что называется «жить интересами коллектива». Но ведь это неправда. Она задумывалась о них лишь постольку, поскольку нужно выполнить ту или иную работу. Она делала вид, что заинтересована их семейными проблемами, но и это был лишь вид: в их искренности много игры и мистификации.
И обиды их нужно распределить и уравновесить. «Жизнь коллектива», конечно, очень тесная жизнь, и все приблизительно всё знают друг о друге. Но мы во власти настроений, зависимы от собственного предубеждения и чужого мнения. Да и что нам «виднее со стороны»? Одна может ревновать мужа с помпой, со слезами, с драматическими откровениями на работе, вымогая жалость и сочувствие и обрывая телефон той, с кем неверен ее муж,— все будут ее жалеть и немножко посмеиваться. А другая будет рассказывать, что прекрасно с мужем живет, хотя все знают, что муж ее пьяница и бабник, но будут делать вид, что не знают, раз делает вид она. Но за дверью лаборатории все это иссякает, и каждый бежит к себе, к своей истинной жизни. Даже праздники и коллективные сборища в полном составе, с мужьями и женами — только парад, насилие, невозможность слиться, и не оттого ли столько шумят и шутят и так неуемно танцуют, изображая кто ревность, кто флирт? Не оттого ли собираются иногда без мужей: тут хотя бы все понятно, не запутано, отношения выяснены раз и навсегда. Та же скука, но чуть побольше вольностей, и не надо супруга дергать за рукав. Вечером будет сказано мужу: «Мы собирались коллективом. Тебе можно, а мне нельзя?..» Видимость равноправия, хотя ведь муж припаян к ней, к своей половине, и его вылазки «в коллектив» или к однокашникам, друзьям-приятелям — такой же самообман.
Но сегодня все ложилось добавочным грузом: завтрашняя планерка, невинные намеки Каурцевой и молчаливое, тягостное настроение остальных. А Глеб опять бесполезно съездил в Иркутск, и о дочери ничего неизвестно. Где она теперь? Плюнуть бы и уйти, но дома пустая квартира, две комнаты, двадцать восемь квадратов тоски, когда неизвестно, что делать, и Маринины вещи в шкафу. И опять это не отгонишь, и то, что тебе мерещиться будет всякая уголовщина, что от одного только представления... Не отстанет. Когда крутишься по комнате, и забыть бы, забыть. Пустая квартира, твоя и не твоя, вещи, твои и не твои, и все стоит на своих местах, не знаешь зачем. И ты сама... Только попробовать, ничего не будет. Не будет. На грех, похоже, и тянет. Забыть, захлестнуть, бельевая веревка, и все, или в кухне, только окно закрыть. Но нельзя, Лялька придет из школы, в квартире газ, или мать в ванной. Нет, нельзя. Однако все чаще. Никогда бы не поверила, что может так хотеться. Наверно, как засыпаешь под наркозом: просто душно, хочется глотнуть, и уже все.
Впрочем, нельзя, она же себе запретила. Будто бы ничего и нет. А есть: Каурцева перед зеркалом, накрасила губы, уже облизала, тюбик завинтила и кладет в сумочку. Лерочка напяливает рабочий халат и зацепляется шпильками: «Нина Сергеевна, отцепите, пожалуйста...» Девочки только «раскачиваются», ждут особой команды.
Нина Сергеевна смотрит на часы — это игра на публику, который час она и без того знает, но подобный ритуал, наверно, нужен, во всяком случае, уместен,— пятнадцать минут после обеда могут затянуться и на полчаса, и на час.
— Девочки, закругляемся, без двадцати два. Лерочка, миленькая, дать вам работу?
И тоже странно: все уже разбрелось в душе, будто она какую-нибудь глупость думала. Лерочка, которая зацепилась шпильками на фоне твоих трагических переживаний. Мир сфокусировался в твое рабочее место, сбежался, воссоединился, и ты в нем при деле, и все при деле и коллектив — он, конечно, коллектив. Кстати, соцобязательства на декабрь: она прикинула, все согласны? Машенька, отпечатай, пожалуйста, ну да, как обычно: три интервала и аккуратненько по пунктам. Теперь личные, да, да, каждому, Светлана Ивановна, вы шутите, конечно, но и вам тоже. Придумайте что-нибудь.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





