ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
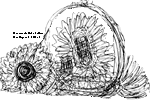


рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Масс Анна 1990
В декабре 63-го я лежала в палате родильного дома имени Грауэрмана, на Большой Молчановке. Мне приносили туго запеленутого младенца — моего сына Андрюшу. Я укладывала его рядом с собой на подушку, и мы привыкали друг к другу. За окном палаты шло строительство Калининского проспекта. Днем и ночью бил и бил в мерзлую, отогреваемую кострами землю мощный пневмомолот.
Моя подруга, ныне покойная, художница Наталия Павловна Антокольская, в ту пору жила на одной из артерий старого Арбата — на улице Вахтангова. Из окна ее квартиры была видна Собачья площадка и часть Борисоглебского переулка, и Наталия Павловна, сидя на подоконнике, зарисовывала для себя, для памяти, это постепенное «одержание», эту грубую победу техники над уголком старой Москвы. На рисунках сначала были изображены ветхие домики, потом они же, превращенные в груды обломков, потом — земляные валы, бульдозеры и краны на том месте, где были обломки, и наконец — асфальтовые катки, уравнивающие в одну плоскость то, что было еще недавно улицей с круглым сквериком с фонтанчиком посредине.
Запеленутый младенец вырос, заканчивает институт. А теперь, спустя двадцать лет, наступила очередь старого Арбата менять свой облик. И мне захотелось — ну хотя бы для младшего сына Максима — зарисовать постепенный уход в небытие улицы моего детства.
Я начинаю эти зарисовки в июне 84-го, когда весь Арбат разворочен и перерыт. Из зияющей многометровой глубины посреди мостовой доносится шум работающих машин, поблескивают рельсы и трубы новых коммуникаций.
Солдаты ставят решетчатые заграждения, пешеходы обходят пирамиды бетонных полукруглых плит и уже, кажется, привыкли, притерпелись к неудобствам. Все так же деловито толпятся в булочной и молочной, в «Диете», «Консервах», «Рыбе», «Тканях», «Комиссионном», «Детской одежде».
Вдоль тротуаров тянутся дощатые прикрытия, прячущие под собой трубы. На переходе от магазина «Свет» к магазину «Консервы» с этих прямоугольных прикрытий на мостовую спускаются коротенькие сходни, на которых опасливо балансируют старушки.
Закрылся «Зоомагазин»....
...Вдруг я поняла, что не могу писать об Арбате отдельно от своего детства. Эти два слова — Арбат и детство — связаны для меня десятками кровеносных сосудов. Я с печалью осознаю себя одним из тех невеликих его пешеходов, которые стучали каблуками по его асфальту еще в те дни, когда этот асфальт, замусоренный, в трещинах, покрывал его тротуары и мостовую... Мой старый Арбат, я закрываю глаза, и ты снова и снова накатываешь на меня теплой волной памяти. Я вижу тебя в пору июньского тополиного снегопада, и жарким, пыльным июлем, когда над витринами твоих магазинов нависали полосатые матерчатые тенты, надуваемые душным ветром, пропитанным выхлопными газами многочисленных автомобилей, и зимой, когда в твоих скромных витринах зеленели живые елочки. Я иду по твоему тротуару, стараясь не наступать на трещины, сворачиваю в Плотников, где еще нет ни розовых жилых гигантов, ни гостиницы с черными «Волгами» у подъезда и где на месте бесхозного пустырька напротив нее стояли два деревянных скособоченных дома. Там в обжитом дворе по-деревенски сложены поленницы, женщины выбивают матрасы и ковры, повесив их на провисшую веревку. Я выхожу на улицу Веснина, которую мои родители упорно называли по-старому Денежным переулком, — и вот она, моя улица Щукина, которая при жизни Бориса Васильевича называлась Большой Левшинский переулок. Вот мой серый пятиэтажный дом, где над каменным забором нависают ветви лип. Над сумрачной подворотней еще нет мемориальных досок, и Рубен Николаевич Симонов, не высеченный в камне, а живой, в расстегнутом светлом макинтоше и шляпе, сидит на скамейке возле второго подъезда под окнами щукинской квартиры и беседует с Верой Константиновной, с Анной Алексеевной, с Анатолием Осиповичем. Обсуждается спектакль, вовлекаются в разговор все, кто идет мимо. Потому что наш дом — дом артистов Театра Вахтангова, и все тут друг друга не просто знают, а все — как одна семья, а мы — дети этой семьи, мы тут родились и растем — Мишка, Валя, Анька, еще одна Анька, другой Мишка, Наташа, еще одна Наташа, Маринка — дворовая компания.
Я вижу довоенную булыжную мостовую на нашей улице, резные железные ворота и такую же калитку, которую рыжеусый дворник Антон запирал на ночь. Я храню дорогое для меня довоенное воспоминание о том, как Борис Васильевич Щукин, проходя по двору, остановился возле меня, четырехлетней, и дал мне яблоко.
Пустячное воспоминание.
Но на той поляне детства, куда не устает возвращаться моя память, оно живет вместе с другими, большими и маленькими, как живут в саду разные цветы. Если за цветами не ухаживать, они зарастут травой. Если воспоминания не беречь, они потускнеют и погаснут. По ним, как по опознавательным огонькам, можно выйти на свою поляну, затерянную среди лет и событий, присесть и отдохнуть.
Своя поляна есть у каждого, но иногда — и часто — фонарики перегорели или, лучше (чтобы сохранить старомодность образа), в них кончилось масло, и их сунули на чердак памяти, как ненужное старье. И тропинка к поляне детства заросла, затерялась, и сама поляна зарастает бурьяном. И вот уже вроде и помнит человек детство, но как-то по-деловому, с позиции, чему, например, его научили полезному. А кто ему там дал яблоко — это все сантименты, мешающие идти вперед, к цели. Может, он и прав, а я не права.
Но вот идешь по Арбату, с которого слой за слоем сдирают прошлое, и хочется удержать хоть что-нибудь, хоть эту вот витринку с разноцветной пуговичной мозаикой, хоть эти чудом сохранившиеся названия переулков — Кривоарбатский, Спасопесковский...
Я написала это в 84-м, а в августе 86-го вдруг объявили: Метростроевской улице вернули прежнее название — Остоженка, и еще несколько старых названий улиц и площадей вернули Москве, и была горячая радость, праздник сердца — неужели? Вот, не зря писали, добивались! Сработало! Наконец-то!
А потом — ребячье чувство обиды, словно дали лизнуть мороженое и тут же отняли. А Теплый переулок? А Николопесковский, Большой Ржевкий, Борисоглебский? Нащокинский?..
Особенно болезненно отозвалось переименование Зубовской площади. После того как столько писали, говорили, выступали — уж, кажется, хватит!
— Следующая остановка — площадь Шолохова! — как удар под дых.
Мы идем с Максимом по Садовому, в сторону парка культуры. Прохожий спрашивает, как пройти на Большую Пироговскую. Максим отвечает:
— Дойдете до площади Шолохова и свернете направо.
— Максим, — говорю я. — И в тебе ничего не сопротивляется, когда ты произносишь новое название Зубовской площади? Неужели ты уже привык?
— Запросто, — отвечает мой семнадцатилетний сын. — Это вы, старые, переживаете, а нам это пофигу.
... Я помню «водяные пантомимы», которые затевал Анатолий Осипович Горюнов, веселая душа нашего дома, в какой-нибудь теплый весенний день; как наши родители выходили на балконы и принимались обливать друг друга водой — из кастрюль, бутылок, детских клизмочек. Взрослые резвились, как дети, а мы, дети, визжали от восторга, глядя на них.
Так ведь они были молоды, гораздо моложе, чем мы сейчас.
И вот наш ковчег плывет и плывет по времени, и почти уже не осталось тех, кто первыми населили его. Квартиры пустеют, а потом в них поселяются совсем другие люди, которые не помнят, не знают, что рос огромный клен посреди двора, что почтальон Федор Федорович разрешал нам разносить по этажам газеты, не знают о весенних «водяных пантомимах», не помнят о том времени, когда в нашем дворе была одна-единственная машина — черный «хорьх» Рубена Николаевича Симонова, и водил ее шофер Сергей Георгиевич, Сеич, любимец всех ребят.
Не знают, не видели, как шел по двору вельможный академик Виктор Александрович Веснин, в шубе с бобровым воротником шалью и в богатой бобровой шапке. Как в ответ на наше «здравствуйте!» он снимал шапку и вежливейшим образом кланялся нам, дворовой ребятне, не рассеянно-безлично, а каждому в отдельности.
Не знают не помнят, как пролетала, всегда в чем-то развевающемся, трепещущем, красавица Цецилия Львовна Мансурова. Как в 44-м, осенью, ее под руки вели по двору с похорон мужа, Николая Петровича Шереметева, нелепо погибшего на охоте. Он был скрипачом театрального оркестра и настоящим графом, отказавшимся уехать с семьей в эмиграцию из-за рыжеволосой исполнительницы роли принцессы Турандот и немало претерпевшим за свою любовь.
Она еще многие годы сохраняла осеннюю яркость облика, молодую экспансивность. Глаза ее всегда излучали доброту и живой интерес к собеседнику. В ней была особость истинно вахтанговской актрисы, немножко экзальтированной, полной обаяния, озорства, женственности и при этом глубоко образованной. Она заражала людей внутренней радостью своего бытия. До слез грустным был ее постепенный уход, когда она вдруг как бы переселилась разумом в прошлое. Ей казалось, что еще жив ее Коля, ее родители, а мы, кого она помнила детьми, и сейчас еще дети...
А потом был убранный белым шелком и усыпанный цветами гроб, звучал прелестный вальс из «Принцессы Турандот», и с большой освещенной фотографии на затянутой черной тканью стене глядела молодая, прекрасная Целюша. Так мы ее называли. И мы не с восьмидесятилетней безумной старухой прощались, а с ней, глядящей с портрета, щедрой, живой, вдохновенной, будто навечно одержимой театром...
...Шел по двору сосредоточенный Борис Евгеньевич Захава — «Наташкин папа». Выходила из своего подъезда черноокая, медлительная Анна Алексеевна Орочко — «Женькина мама». Медленной и торжественно, весь погруженный в предстоящий спектакль, проходил Иосиф Моисеевич Толчанов — «Алешин папа».
Они все были учениками Вахтангова, великого педагога, который слишком рано умер, успев воспитать только одно поколение артистов, но оно, это поколение, впитавшее в себя его нравственные уроки, несло людям чистый и яркий свет до самого конца, до тихой мелодии из «Принцессы Турандот».
В то множество слагаемых, из которых потом получатся наши характеры и сложится наше мировоззрение, войдет и увлеченный разговор артистов на скамейке перед домом, и вежливый поклон академика, и яблоко, подаренное просто так, от души, и вовремя сказанное доброе слово, и еще десятки и сотни маленьких, несущественных — для тех, кто их совершает, — поступков, которыми засевались наши души и которые потом прорастут ответным желанием сделать добро, не обидеть бестактностью, любить свое дело и честно делать его, не отпихивая локтем рядом стоящих.
Почему мы так бережем воспоминания нашего детства? Возможно, это были не самые легкие и счастливые годы, особенно годы отрочества с их обостренной чувствительностью, скованностью, неуверенностью в себе. Повзрослев, мы стали увереннее, смелее, образованнее. Вот только чувствовать так, как мы чувствовали в детстве, мы уже не можем. Разучились верить так, как верили тогда. Влюбляться в прекрасных, идеальных киногероев — как тогда. Сейчас мы стали скептиками, критиками. Может, из всех барьеров, которые жизнь нагородила между нашим детством и теми, кем мы стали сейчас, этот — самый высокий: барьер иронической усмешки над тем, чем мы восхищались в детстве.
Но над самим детством мы не смеемся. Нам жаль эту милую землю, с которой год от года рвутся последние связи. Мы держимся за старых друзей, с кем посчастливилось не расставаться всю жизнь. Чем старше становишься, тем они дороже. Потому что «остров детства» — это не символическая земля, куда мы отправляемся за воспоминаниями. Этот остров — в тебе самой и в тех, кого ты помнишь подростком, и кто в тебе, сквозь все наслоения времени, видит девочку в облезлой беличьей шубе. Когда нет никого, кто еще помнит ее, — она чахнет и засыхает, как забытая герань в комнате, из которой уехали все жильцы.
Сейчас, когда мне пятьдесят и уже настала пора подводить некоторые итоги, я за многое благодарна судьбе. У меня дружная семья, у меня любимая работа — в детской редакции радио. Мечтавшая в детстве о далеких путешествиях, я осуществила свою мечту, потому что с мужем-геологом побывала в таких местах, которых мне, пожалуй, никогда бы не увидеть при ином жизненном раскладе.
Я благодарна судьбе за то, что она оставила мне почти всех друзей моего детства, тех, с кем я выросла и до сих пор живу в одном доме.
Он постарел, наш дом, утратил былую престижность. Неподалеку от него поднялись новые дома, выше, современнее, и он, признавая их молодую спесь, скромно притаился в глубине своего двора. А двор, где мы играли в прятки, салки, круговую лапту и который казался нам таким большим, стал пристанищем «Жигулей», «Москвичей», даже двух «мерседесов», но для детских игр в нем остались только жалкие уголки. К тому же, с тех пор как какие-то умные головы из домоуправления отдали в металлолом железные ворота вместе с калиткой, он стал бесхозным, а значит, ничьим двором.
С некоторых пор я поняла прелесть старых вещей.
Вот эту керамическую статуэтку, изображающую девушку в калмыцком наряде, сидящую перед расстеленным ковром-пепельницей, купил папа в начале 50-х, когда вдруг увлекся собиранием фигурок из керамики. И она заняла свое скромное место среди балеринок, лыжниц, клоунов, собачек. А потом увлечение кончилось, часть статуэток раздарили, кое-какие продали, а девушка-калмычка осталась, потому что кто-то отбил у нее голову, а потом приклеил, и она утратила товарную ценность, приобретя ценность семейной реликвии. Она стала как бы безмолвным членом семьи, потому что «помнит».
Она поселилась теперь на кухне, на подоконнике, молчаливая свидетельница наших семейных событий, со своей грубо приклеенной головой, словно, как и мы все, не обойденная следами времени. Сидит, потупив глаза, как будто смотрит в глубь себя и вспоминает — моих родителей, брата и еще многих, многих, чьи голоса, и шаги, и дыхание я уже никогда не услышу.
А вот это мамино квадратное зеркальце в деревянной оправе лежало на мамином туалете.
Ты должна готовить уроки, но вместо этого ты смотришь на себя в это зеркальце и пытаешься представить, какой ты будешь через четыре года (мама говорит, что к шестнадцати годам девушки хорошеют).
Уже давно нет мамы, а зеркальце живет, только помутнело немного. Ты берешь его в руки, и у тебя возникает зримое ощущение движения времени. Ты идешь сквозь него, и каждый год, как волна, — накатывает, накрывает с головой и уходит назад, смывая и унося в вечность уже и сверстников твоих, и дома, и целые улицы, и любимые твои игрушки, и книжки с картинками, и песни в исполнении Бунчикова и Нечаева. Ты пытаешься уцепиться, удержать хоть что-нибудь, но в руках у тебя только старое зеркало, твоя машина времени в мелкой сетке морщин на амальгаме, — и ты видишь, что лицо твое тоже покрывается сеткой морщин, утрачивает упругую округлость щек и подбородка и приобретает то выражение житейского опыта, которое даже больше, чем седина и морщины, говорит о возрасте. И сама ты под накатами этих волн покрываешься броней опыта, отвердеваешь чувствами.
Суета затопила жизнь. Дни полны ничтожных забот — дозвониться, сдать, достать, успеть, отнести, оформить, купить, зайти, договориться — десятки мелочей ты удерживаешь в памяти, забывая о чем-то главном: о своей жизни вообще.
В детстве ты была свободна для больших душевных потрясений, счастья или глубокого страдания. А сейчас — измельченные варианты этих эмоций — переживания, волнение, нервозность.
Иногда кажется, что пустяки, которые заполнили твой быт, и есть нормальная жизнь. Что, кроме них, и нет ничего. На минуту опомнишься, ужаснешься, захочешь стряхнуть с себя все это налипшее, достучаться сквозь броню до самой себя — и вдруг мысль: ах, суп забыла посолить!
Но вдруг, в редкие минуты одиночества и покоя, включается та дальняя, та странная память, которая, наверно, и есть душа, что живет в каждом из нас до самой нашей смерти, и ты вглядываешься в мутноватую ее глубину...
С того момента, как реальные предметы и лица начали четко прорисовываться сквозь сонный туман младенчества, я четче всех вижу не маму, а Шуру, ее угловатое лицо калужской крестьянки, русское и одновременно межнациональное человеческое лицо, в чертах которого было даже что-то негритянское. Вижу ее зачесанные назад прямые, стриженые волосы, схваченные на затылке полукруглой гребенкой, мягкие, широкие губы, крупный нос, светлые, небольшие, глубоко посаженные глаза, ее корявые руки, которые никогда не делали больно, ее крупную, слегка расширяющуюся книзу легкую в движениях фигуру.
Мама возникала и исчезала — яркая, душистая, золотисто-белая, пухленькая, но при этом таившая в себе опасность вспышки гнева или резкого, до экзальтации, объятия, из которого хотелось поскорее освободиться.
Шура всегда была ровно-теплая, в ее спокойном и надежном поле мне было хорошо и покойно, как цыпленку под крылом у наседки.
В нашем доме во многих семьях были няни, они же и домработницы. По вечерам они сидели во дворе — Саша, Марфуша, Варя, Шура, Аннушка, — играли в лото за самодельным столом под кленом. С годами они становились как бы членами семей, их и называли по фамилиям тех, у кого они работали.
Моя Шура приехала из деревни в 32-м году. («У нас семья была — два брата, да три сестры, усе уже взрослые, да папаша с мамашей, и жили мы — дай бог каждому, двое лошадей у нас было, да двое коров, овцы, поросята... Ну и начали нас с 29-го года кулачить. Один раз отобрали, на тот год опять отобрали... Ну, папаша с мамашей осталися в деревне, а мы и разъехалися кто куда».)
Овдовевшая, оставив в деревне двенадцатилетнего сына Колю, она приехала в Москву. Сначала работала у писательницы Веры Чаплиной, которая тогда еще не была писательницей, а служила в зоопарке и однажды принесла оттуда домой львенка, оставшегося сиротой, и этот львенок — Кинули, Кинулька жил у них в коммунальной квартире. Шура любила вспоминать, а я слушать, какая она (это была львица) была умница, ласковая и как они с Верочкой ее выхаживали.
Шура была малограмотная, читала с трудом по буквам, и все-таки самые первые запомнившиеся мне стихи я услышала от нее. «Наша Таня горько плачеть, уронила в речку мячик...» «Идеть бычок, качается, вздыхаеть на ходу...»
Она любила петь — у нее был мягкий, грудной голос, теплый и добрый, как сама она. Незатейливые ее песни, как роднички, бьющие из темной глубины времени, были светлыми и чистыми. Так хорошо засыпалось под ее «баю-баюшки-баю, не ложися на краю...». Серенький волчок, похожий на большого, пушистого щенка, брал за руку и уводил под малиновый кусток смотреть сны.
Иногда она, уступая моим приставаниям, читала мне детские книжки по складам, и от того что текст сопротивлялся ее усилиям, не хотел читаться — услышанное приобретало особую значительность.
Была у нас с ней любимая книжка, с сериями рисунков художника Радлова и текстом — в две-три строчки — разных авторов, среди которых был и Зощенко. Особенно нам нравилось: две белки живут по соседству, у одной дупло с терраской, с гамаком, с накрытым столом, а у другой дупло так себе, зато над ним раскрыт зонтик. Первая белка приглашает вторую в гости, и та, бесхозяйственная, но изобретательная, отправляется к ней в зонтике, зацепив его ручкой за веревку, протянутую от дупла к дуплу.
Подождите, я к обеду
К вам на зонтике приеду!
Казалось бы, зачем на зонтике, когда белки легко перелетают с дерева на дерево? Но ты прекрасно понимаешь, что художник и автор играют с тобой, что это не по-настоящему, а «понарошку». Ведь и твоя игра с куклой тоже включает в себя множество условностей: ты и купаешь ее, и кормишь «как будто». Картинки можно долго рассматривать, находить в них все новые смешные подробности, гадать: а как устроено там внутри, в самом дупле? Вот у этой белки, хорошей хозяйки, и грибы наколоты на веточки, и орехи грудкой лежат на столике, и все так красиво разложено по тарелочкам. Хотелось тоже стать белкой и жить в таком же домике.
Чуковского с его Мухой-цокотухой, с его «ехали медведи на велосипеде», с его Крокодилом, добрым, грустным, каким его нарисовал художник Конашевич в книжке «Телефон», тоже привела ко мне Шура:
А потом позвонил Крокоди-ил
И со слезами проси-ил:
Мой милый, хоро-оший,
Пришли мне галоши...
Не возникало никакого сомнения, что крокодилы любят галоши. Это было так же естественно, как то, что я, например, люблю конфеты «Раковая шейка», нежно-розовые в белую полоску, с хрустом рассыпающиеся во рту. Почему бы и Крокодилу не любить галоши, чистые, блестяще-черные, так хорошо пахнущие резиной, с мягким красным нутром и надсеченными мелкой решеточкой, как спинка котлеты, подошвами? Так и виделось, как Крокодил поедает галоши, хрустя и жмурясь от удовольствия.
А может, это тоже была скорее игра в веру, чем подлинная вера? Так же как для Шуры — Николай-угодник, про которого она говорила:
— Висить — и пусть висить, есть не просить. Может, и вправду помогаеть, бог его знаеть.
Мы с ней как бы принимали правила игры, она — в святого, я — в Крокодила, в Муху-цокотуху, в белку на зонтике.
А Пушкин пришел просто, как будто был всегда.
Жил-был поп,
Толоконный лоб,
— рассказывала Шура.
Пушкин пришел с ее безыскусственной интонацией — а ему и не требуется иной интонации. Пушкин был вечерним засыпанием:
Ветер по морю гуляеть
И кораблик подгоняеть...
Пушкин был вещим Олегом, малышом, который отморозил пальчик, морозом и солнцем, бурей, которая «мглою небо кроеть», — был долгие годы, пока в школе не случилось того самого несчастья, о котором и говорят и пишут, но ничего пока от этого не меняется: Пушкин-сказочник, собеседник, живой, веселый, мудрый Пушкин превратился в «выразителя», «представителя», «родоначальника» и исчез из души на многие годы.
Не знаю, удастся ли мне в этой повести совместить два детства — свое и сына. Провести, как говорится, параллель. Боюсь, что нет, отчасти из-за несовместимости во времени, а главное, оттого, что девочку я воспринимаю изнутри, памятью чувств, а мальчика — извне, глазами взрослого человека.
Как понять извне детство даже собственного ребенка? Да мы подчас и не пытаемся, в высокомерии жизненного опыта считая, что тут и понимать нечего.
— Не кроши хлеб! — учу я пятилетнего Андрюшу. — Смотри, я не крошу, тетя не крошит!
— Но ведь я же — не вы! — отвечает он.
Худенький, пепельноволосый, с темными, серьезными глазами и сведенными бровями, подрагивающими в такт мыслям, которые кропотливо и тщательно проворачиваются в его медлительной голове, — таким я вижу его сквозь время.
Мы с ним только что переехали на дачу. Зашла соседка, рассказала, что в лесу и на участках расплодились ежи и белки — совсем ручные, людей не боятся.
— А волки? — спрашивает Андрюша. — Тоже ручные?
— Волки? — смеется соседка. — Волки, милый, все в лес убежали, не бойся.
Она уходит, я укладываю Андрюшу спать.
— Мам! Не уходи! Давай немножко поразговариваем!
— Давай. А о чем?
— Мам! А волку вкусно есть человека?
— Вот уж как-то не задумывалась.
— А если человек волка в лесу встретит, то первый кто убежит — человек или волк?
— Не знаю.
— А если волк первый не убежит, то человек что сделает?
— Ну... Наверно, на дерево влезет.
Молчание. Заснул? Тихонько поднимаюсь.
— Мам! Не уходи! А если дерево без веток, а человек — маленький мальчик?
Но я ухожу — мыть посуду.
— Мам, ну пожалуйста! Ну посиди со мной! Я боюсь!
— Глупости!
Через десять минут захожу — спит. Щеки мокры от слез. Он боялся — один, на новом месте, в огромной для него «взрослой» кровати. И не было у него своей Шуры — та бы поняла, успокоила, отвлекла веселой историей. А мне недосуг разбираться в его страхах.
Почему я так часто бываю груба с ним, довожу до слез взрывами своего раздражения, обижаю досадливыми «отстань», «не мешай»? Каждый раз уговариваю себя удерживаться от прикрикиваний, которые — убедилась! — ни ему, ни мне пользы не приносят. И опять не выдерживаю. Педагогическая неграмотность? Нервы? А может, просто распущенность? Подсознательное жестокое чувство безнаказанности и полновластия над слабым, беззащитным существом?
— Мам! Пойдем в лес! А то другие ребята со своими мамами ходят, грибы собирают, а мы еще ни разу.
— Пойдем.
— Ура! А можно, я возьму с собой в лес машинку?
Машинка крохотная, ярко-красная, со складной лесенкой.
— Откуда у тебя такая?
— Мне Люда дала поиграть.
— Возьми, только смотри не потеряй.
Рыжая белочка с белой грудкой сидит на тропинке и бесстрашно на нас поглядывает, но когда мы подошли совсем близко — вспрыгнула на дуб и удрала, к Андрюшиному огорчению. Еще больше он огорчился, когда сунул руку в карман и обнаружил там конфету.
— Если бы я протянул ей конфету, то она бы сразу ко мне подбежала. Она просто не знала, что у меня есть конфета.
Под дубом валялись желуди, и Андрюша спросил, почему желуди падают с дерева. Я объяснила, что желуди — это семена дуба, что если осенью желудь упадет на рыхлую землю, то весной из него выйдет крохотный росточек, он будет расти и через много лет превратится в большой дуб. И на нем опять будут желуди.
Андрюша сейчас же принялся убирать желуди с утоптанной тропинки в сторону.
— Вот здесь рыхлая земля, — приговаривал он. — И вот здесь рыхлая земля. Посмотри, какой желудь. Он как будто улыбается.
Я думала с умилением: какой хороший, прямо-таки образцово-показательный урок общения с природой. Как полезны для ребенка такие прогулки.
Я имела в виду, что этот урок даю ему я. А это он мне давал урок — доброты, сопереживания, сочувствия всему живому. В свои пять лет он к природе ближе, чем я. Ему желудь улыбается, а мне нет.
Вдруг мы увидели ужа. Андрюша испугался,
— Не бойся, это уж!
— Уж? А что это такое?
— Ну, это такая змея безобидная.
— Знаешь, наверно, почему он называется «уж»? Потому, что он может ужалить.
— Да нет, он не кусается. Он только на вид опасный.
— А-а! Он называется «уж» потому, что он на вид ужасный! Ой! Мам! Смотри, какая хорошенькая улиточка! А что едят улитки?
— Листья.
— Они их, наверно, не кусают, а лижут, как мороженое. У них ведь нет зубов. Я ее возьму домой. Пускай она у нас живет. Смотри, какое у нее симпатичное лицо. Мам! А улитки полезные?
— Не знаю. По-моему, нет.
— Они знаешь какие? Они слабые. А слабые — они хоть и не очень полезные, но и не очень вредные. Ой! Мам! Смотри, какая красивая паутина! А как это так получается, что мухи попадают в паутину?
— Обыкновенно. Летит, не заметит и увязнет.
— Как же не заметит? Ведь я же замечаю. Она, что ли, хуже меня видит?
— Не знаю!
— Может быть, это рассеянные мухи: задумаются и...
Он тоже задумался и сейчас же угодил в паутину.
И вдруг — счастливый визг: он увидел крепенький подосиновик, приподнявший своей шапочкой хвою и мох.
— Мам, подожди, не срезай! Давай сначала на него посмотрим. Правда, как будто человечек сидит в шалаше? Мам! А что будет с улиткой, если кормить ее не листьями, а самыми красивыми цветами? А дерево — деревянное? А цветам больно, когда их рвут?
Я уже устала от его вопросов. Мне хочется тишины, молчания, того расслабленно-очищающего
состояния духа, какое испытывает в лесу взрослый человек, оставивший на короткое время все дела.
Я все чаще и все досадливее отвечаю: не знаю! И уже где-то внутри заискрилось холодными искрами раздражение. Пожалуй, оно отчасти вызвано собственным бессилием перед его вопросами.
— Андрей, а где машинка?
Он смотрит на свои руки. Под ноги. Поднимает ни меня испуганные глаза.
— Я не знаю...
Еще секунду назад все было так хорошо. Он был — Человек. А сейчас он — ничтожное существо, униженное страхом, потому что он уже изучил на опыте эти мои мгновенные переходы от умиленной задушевности к фельдфебельской грубой ярости.
Сейчас, когда я пишу эти строки, как ненавижу я себя, выкрикивающую в опьянении власти: «Растеряха! Разиня! Опять потерял чужую вещь! Никакой ответственности!..»
Он остолбенело молчит. Он сам потрясен пропажей и не понимает, как это произошло. Он ведь не хотел!
А я, любительница поговорить о воспитании «по Споку», ору на него — слабого, не умеющего пока ответить злом на зло, хамством на хамство, (Он потом научится!) Ну как же, я воспитываю, приучаю к порядку.
— Ищи, пока не найдешь!..
С глазами, в которых стоят слезы, он поворачивается и плетется обратно в лес. Он спотыкается от горя и страха. По втянутой в плечи голове, по ссутулившейся спине угадывается, что он ждет подзатыльника.
— Посмотри, может, ты ее в карман сунул? Он опускает руку в карман шорт и вытаскивает
оттуда машинку. Смотрит на нее, не веря своим глазам. Радости нет, только недоумение. Губы и подбородок дрожат.
— Что же ты раньше не вспомнил? — говорю я голосом раскаявшейся ведьмы.
— Я бы вспомнил, — шепчет он. — Но я забыл от страха.
Подарок дедушки и бабушки — велосипед, импортный, подростковый, с фарой, багажником, ручным тормозом, цветными стеклышками в педалях. Опустили до отказа седло, и руль, примерили Андрюшу к велосипеду. Ноги чуть-чуть не доходят до педалей. Ребята окружили счастливца. Друг Лешка расплакался от зависти: у него велосипед хоть и двухколесный, но детский, приземистый, на толстых шинах.
Андрюша сказал:
— Не плачь! Я немножко поучусь и тебе дам.
— А мне дашь? — спросила Анюта.
— Всем дам!
Так оно и случилось. Через несколько дней фара уже не смотрит гордо вперед, а висит на шнуре, из педалей выпали цветные стеклышки. Мне это, понятное дело, совсем не нравится. Но Андрюша в восторге. Он счастлив и горд, что на его велосипеде катаются все ребята.
Сам он довольствуется малым: когда наступает его очередь, взбирается на свой велосипед (друзья поддерживают его за руль и седло), прокатывает до кучи песка, падает и передает велосипед следующему.
— Между прочим, Алеша свой велосипед никому не дает, — замечаю я.
— Ну и что же? У него никто и не просит. Все на моем катаются.
— Вот и плохо, что все на твоем. Да еще по двое! Зачем ты разрешаешь по двое ездить?
— Ну и что же?! Сережа-то не умеет еще кататься, а ведь ему тоже хочется! Вот Лешка его и катает. Что же, если человек не умеет, ему вообще не кататься?
— Ну и сломают окончательно!
— Ничего! Дедушка и бабушка мне водяной пистолет купят!
Этого я выдержать уже не могу. Очередной «взрыв»:
— Тебе легко достается! Ничего не ценишь! Потребитель! Избаловался! Привык: не успеет это надоесть — на тебе то! Никакого тебе водяного пистолета не будет, так и знай! И велосипед, если еще раз увижу, что на нем по двое катаются, — отберу и замок повешу!
Я осознаю даже и в эти минуты запальчивости, что прав он, а не я. Уже тем прав, что добрее и щедрее меня. Но пользуюсь силой и властью, чтобы внушить ему — что?! То, чего сама в людях не терплю: жадность!
Упавшим голосом:
— А что такое — потребитель?..
Лучшие минуты нашего общения — игра в «Голубой домик». «Голубой домик» — это мой широкий голубой мохеровый шарф. Мы садимся на диван, накрываемся с головой этим шарфом — и вправду оказываемся в уютном, теплом голубом шалашике. Андрюша знает: если я согласилась посидеть с ним под голубым куполом, значит, я никуда не тороплюсь, у меня хорошее настроение и можно попросить меня почитать книжку, просто «поразговаривать».
— А мне жалко этого гадкого утенка, что его все бьют, щипают, гонят. Я сейчас пойду попью воды, а ты пока читай. Я приду, а ты уже будешь читать, как этот утенок превратился в лебедя. И как его уже больше никто не мучает. Мне как раз это интересно.
За обедом выяснилось, что сказка «Гадкий утенок» не нравится ему, потому что там «есть случаи».
— Но ведь в каждой сказке обязательно есть случаи.
— В каждой?
— В каждой.
— Вот мне это и не нравится. Вдруг мне это приснится?
— Какая же книжка тебе нравится?
— Про почтальона. Она хоть и скучная, но там зато нету случаев.
Странная тяга к бесконфликтности. Я пытаюсь убедить его, что гораздо интереснее, когда в книжке есть «случаи».
— А я не люблю, когда случаются «случаи»! — упорствует он. — Я люблю про доброе.
— Но ведь тебе нравится, например, стихотворение Маршака «Не было гвоздя — подкова пропала...». Ведь ты его даже наизусть знаешь.
— Ну и что же? Знаю — а все равно не нравится. Ведь командир же убит! И конница же разбита! Ей же больно! Мам! А что такое конница?
Почему он так боится «случаев»? Не мои ли взрывы настроений тому виной? Да, он рассеянный, медлительный, все теряет, плохо ест, трудно засыпает — но кричать-то зачем? В чем он виноват, если разобраться? Он — мыслитель, а я дрессирую его, как собачку, осаживаю, спугиваю его мысли. Может, эти мои рывки, взрывы, внезапные перепады настроений, приносящие ему душевную муку, он и называет «случаями» и боится их? Но при этом какая доверчивая готовность мгновенно забыть обиду и снова жадно пытаться понять, охватить, вникнуть, прочувствовать, открыть все то, что для нас, взрослых, уже закрылось, утратило цвет и запах.
— Мам! Это бутон?
— Не бутон, а батон: белый хлеб.
— А почему он называется «батон»?
— Не знаю.
— А я знаю: потому что на нем такие же складочки и полоски, как на том батоне, из сказки. Когда тот батон грелся на солнышке, он сворачивался и у него на спине получались такие же полоски.
— Ничего не понимаю. Какой батон?
— Ну, из сказки! Сама же мне читала сказку про слоненка, у которого был короткий хобот, а крокодил тянул-тянул и хобот стал длинный-предлинный.
— А при чем тут батон?
— Ну помнишь, там еще была такая огромная змея — батон! Она говорила человеческим голосом.
— Питон! Питон, а не батон! Питон Скалистый змей!
— А почему он «питон»?
— Вот уж не знаю.
— А я знаю. Потому, что он знаешь как питается? Он разевает рот — ам! — и сразу проглатывает. Это он так питается. Поэтому он — питон.
— Мы с Лешкой нашли сегодня во дворе такой тяжелый-претяжелый камень, и Лешка сказал, что это меориот.
— Метеорит, может быть?
— Да, правильно, метеорит! Мам! А что это такое — метеорит?
— Ну, это такое небесное тело, которое падает из космоса.
— Из космоса? А откуда же оно берется?
— Не знаю.
— Ну скажи!
— Правда, не знаю.
Вздох.
— Скорее бы папа приехал! Он все знает!
Папа приехал!!!
Этот визг, этот восторг, этот поток вопросов невозможно описать. Папин рюкзак, папины пропахшие костром рубашки, папина ракетница, сам папа — загорелый, веселый, энергичный, а подарки! Оленьи рога, кедровые шишки, образцы минералов! Андрюшина жизнь на долгое время переполнена новыми радостными впечатлениями. Теперь он ждет вечера. Ну когда же, когда придет с работы папа?
Звук поворачиваемого ключа.
— Ой, папа пришел!
Мчится к двери и сразу же вываливает на папу все вопросы, скопившиеся за день:
— Папа! А ты знаешь, что едят русалки? Они едят рыбу! Пап! А как же они едят рыбу? Где же они ее жарят? Папа! А бывает такое грязное белье, что даже чистое? А что такое время? Почему оно все идет и идет? Папа! Покатай меня на ноге! Только я сначала тебя заведу. Подожди, не катай! Тр-р... Тр-р-р... Тр-р-р-р!!! Готово! Катай!
И в ответ никогда никаких «отстань!», «дай отдохнуть!».
— Сейчас, Андрей, мы с тобой поужинаем и займемся очень важным делом.
— Каким?
— Будем делать шкафчик для обуви.
— Вместе? — счастливым голосом.
— Конечно!
— Ну ка, подай рубанок. Подержи вот здесь. А где пассатижи? Нет, это не пассатижи, это клещи. Вот теперь правильно.
Дружески, но строго:
— Смотри, насорил. Ну-ка, возьми веник, подмети.
И в ответ — беспрекословное, радостное подчинение.
Вот что такое — папа приехал!
А рассказы про тайгу! Надо видеть Андрюшкины впитывающие глаза, да что там глаза — лицом, кожей, всем собой, кажется, впитывает он эти рассказы.
— Папа! Расскажи, как вы медведицу с медвежатами встретили!
— Да я уже рассказывал.
— Ну еще раз!
— Лучше я тебе расскажу вот про что... Про то, как мы палатки ставим. Садись поближе. Вот слушай. Сначала мы кладем сруб из трех венцов бревен...
— А что такое «сруб»? А что такое «венцов»?
В глазах — жажда все узнать, все понять. Mне кажется, что в эти минуты он способен понять и запомнить все что угодно, вплоть до самых сложны вещей.
— За завтраком Лилина мама меня спрашивает: «Скоро твоя мама пойдет в магазин покупать ребеночка?»
— А ты что ответил?
— Я ответил, что он у тебя в животе сидит. Созревает. Мам! А где бывает человек, когда его нигде-нигде еще нет?
— Нигде. Его нигде еще нет.
— Вот я и спрашиваю: где же он бывает?
— Не знаю.
— Ну мам, ну правда!
— Лучше ешь как следует! Уронил хлеб, разлил яйцо, весь вымазался. Какой ты все-таки невоспитанный!
— А воспитанный — это вовсе не в том!
— Что значит — не в том? А в чем?
— Ну вот, например, стоит старушка на остановке, такая старая, что прямо ржавая и в трещинах. Подошел троллейбус, а она в него забраться не может. Тогда воспитанный подойдет и поможет. А невоспитанный мимо пройдет.
С полгода тому назад мы шли по Арбату, втроем. Андрюша, счастливый тем, что гуляет с мамой и папой, просил поиграть в «побежали-полетели».
Мы послушно разбегались, поднимали его за руки, и он, поджав ноги, «летел» над тротуаром. Когда он «пролетал» мимо остановки троллейбуса, где суетилась старушка с палочкой, — народ входил, ее оттирали, муж опустил Андрюшу на тротуар, подошел и подсадил старушку. А потом вернулся, и Андрюша «полетел» дальше. Вот и все.
А мои нотации у него в одно ухо влетают, из другого вылетают.
— Пап! Вот я уже все-все про нашего ребенка понял, как он там у мамы в животе сидит. Я только одного не могу понять: как же он попал к ней в живот?
— Э-э... М-м... А ты у мамы спрашивал?
— Спрашивал! Она не знает!
Витя растерянно смотрит на меня, разводит руками.
Андрюша, с надеждой:
— Ну хоть дедушка-то знает?
— Когда же наконец мне исполнится шесть лет?
— Завтра.
— Завтра?! Тогда я всю ночь спать не буду!
— Почему?
— Как почему? Ведь — шесть лет! Шесть! Просто ужас как много!
— А человек чувствует, как он растет?
— Нет.
— А как же он знает, что он растет?
— А он отмечает свой рост. Отметил, через год померился, смотрит — а он вырос.
— Мам! А ведь я чувствую, как я расту.
— Как же ты чувствуешь?
— Вот вчера меня потянуло, потянуло... Я потрогал макушку, смотрю — правда, выше стал.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





