ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна

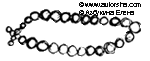

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Ржевская Елена 1987
Моя собеседница спросила, что я испытала, оказавшись в дни падения Берлина в подземелье имперской канцелярии, где находилась последняя ставка Гитлера.
— Если б не было за спиной долгого фронтового пути к рейхсканцелярии Гитлера, я чувствовала бы себя обделенной. Штурм Берлина, поверженный Берлин — все это нельзя воспринять вне контекста всей войны, всего, что нами пережито. Я прошла этот путь из-под Москвы с армией и дорожу памятью о нем. А почему так, не сумею односложно ответить...
Впервые я попала на фронт в феврале 1942 года под Ржев. И для меня Ржев — город моей судьбы. Здесь моя первая встреча с войной. Изувеченная, сожженная земля, беды и самоотверженность, жестокость и сострадание; бойцы с великой простотой их мужества; деревенские женщины фронтовой полосы с их невыразимо тяжелой под огнем войны ношей — детьми. Поразительные великодушие, самоотреченность людей, когда еще так далеко до перелома в войне. Все это напитало болевым чувством душу и осталось со мной навсегда. Выпавшее мне в последние дни войны в Берлине участие в исторически важных событиях, казалось бы, могло заслонить для меня все другие фронтовые впечатления, но самым глубоким переживанием остались те ненастные дни на ржевской земле.
Ржев — это особая точка на необъятной карте войны. Город не только был оккупирован семнадцать месяцев, но все это время он был фронтом. Здесь были непрерывные, ожесточенные бои на подступах к Москве. В своих приказах немцы называли Ржев «плацдармом для решающего повторного наступления на Москву». Ржевский выступ — он именовался в немецких приказах «кинжалом, нацеленным на Москву», — был реальной угрозой столице. А для немцев сдать Ржев, как говорилось в приказе Гитлера, — значило открыть русским дорогу на Берлин.
Ржев, истерзанный оккупацией, обстрелами, бомбами, город, за который нещадно бились противостоящие Армии, — тягчайший очаг войны. Трагедия Ржева предстала с такой сокрушительной очевидностью, когда мы в 1943-м вошли в него...
— Вы как-то сказали о менявшейся «душе войны»...
— Произнесешь слово «душа» и сразу чувствуешь что-то неуловимое... А сказать я хотела о глубинном, духовном лике войны, который запечатлел тот или иной поворот событий. Ржев, стоящий на перекрестке железнодорожных, шоссейных дорог, на перекрестке войны и человеческих судеб, выразительно запечатлел это.
Самоотверженность армии, всего народа была в ту пору, когда она еще не вознаграждалась победой, по-особому высоким духом того трагического времени.
В 1943 году в войне произошел окончательный перелом. Наша армия с боями продвигалась на запад. А навстречу нам возвращалось все то, что заглотала война за время поражений: пленные, оккупация. К этой встрече мы, как видно, оказались не готовы.
В пору отступлений вооруженная армия оставляла без защиты население под игом врага. Нам бы повиниться. Но, освобождая земли, вернувшись, освободители пришли не с сознанием своей вины перед населением, а как судьи. Будто людям, и два и три года прожившим в оккупации, не надо было хоть как-то прокормиться, спасти от голодной смерти детей и, значит, хоть как-то работать, а то и выполнять под дулом немецких автоматов принудительную работу — чистить от снега дороги, например. И все равно вроде бы каждый виноват, чем-то таким «мечен», вызывает недоверие.
Наша военная доктрина не принимала во внимание понятие — плен. Как бы безысходно ни было твое положение, плен официально считался предательством, хотя миллионное трагическое войско билось до последнего в окружении.
У войны не только герои, но и мученики. Ими были наши военнопленные. Население сострадало им. Люди видели, как зверски обращаются с военнопленными немцы, как гибнут люди в плену. Когда гнали в тыл пленных, женщины, отрывая от детей ломоть хлеба, картофелины, рискуя жизнью — немцы открывали по ним огонь, — выходили на дорогу, пытались передать что-нибудь съестное пленным.
Наши бойцы и командиры, освобожденные из плена, проходили через унижение грубым недоверием, поруганием, оказывались за колючей проволокой. От многих я слышала, что это было для них хуже, чем немецкий плен, потому что там они страдали от врага. И разве это не способствовало тому, что среди так называемых «перемещенных лиц» оказалось много тех, кто ни в чем перед родиной не провинился, но опасался вернуться, подпасть под преследования.
Подозрительность, нечеловеческое отношение к тем, кто пережил муки плена, оккупации, били не только по этим жертвам, они сминали, корежили естественное народное чувство справедливости, сострадания. Давление было так велико, что угнеталось присущее людям нравственное чувство и порой начинало восприниматься как нечто само собой разумеющееся: вот я т а м не был, я — чист, а ты побывал и запятнан. Людей стали делить на «чистых» и «нечистых». И если не тотчас, когда еще слишком сурова, требовательна была жизнь и непреложна задача войны, то впоследствии все это не могло не сказаться, не внести свою лепту в апатию, ущербность, отчужденность. Но ведь даже и сейчас, спустя сорок с лишним лет, заполняя анкету, я отвечаю на вопрос, не был ли кто из моих ближайших родственников в плену, не был ли интернирован. Стыдно!
— Ведь сколько лет прошло, а еще не все высказано о войне...
— Вы правы. Трудно донести правду о войне, счастлив тот, кому это удается. А уже десятилетия миновали. И вот нынешнее время, когда и мы, и наши потомки, можно сказать, живем одновременно. А жизнь каждого хрупка и имеет предел. Но никогда еще так осознанно, прямо, патетично целый пласт поколений не заявлял: «Мы уходим». Это — воевавшие люди. И перед лицом неизбежного каждый из них острее ощущает себя частицей великого эпоса. А тот, кто стремится поведать о пережитом, сознает, что если не сейчас, то когда же. И пронзительна тревога — успеть, не уйти, унеся невысказанное. Но трудно донести правду о войне...
— Но почему же?
— Я ведь имею в виду трудно обретаемую правду художественного произведения. Одним благим намерением: буду писать правду, — она не достигается. Правда характера, образ времени, событий емче, многозначительней и «обстоятельней» фактов лишь. Правда — это труд души и таланта. Порой надо, чтобы осенило ею, ведь она — благодать. Потому и счастлив тот, кому удается постичь, обрести ее и художественно выразить. Художественная правда не может быть ни сезонной, ни прагматичной. И она воздействует всем своим составом: благородством и болью, талантом, умом, мужеством, светлой и горевой поэзией жизни. И даже своими заблуждениями. Тогда правда волнует нас, читателей, просветляет, возвышает. И растит дар самого писателя — она творчески заразительна. Вот и стремишься всю жизнь за синей птицей...
1987
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





