ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна



рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Щеголева Мария 1941
Из дневника научной сотрудницы
музея-усадьбы Л. Н. Толстого
ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С НЕМЦАМИ
27 октября. Фронт приближается к Ясной Поляне. В деревне колхозники около своих домов роют щели. У нас в саду работники музея делают то же. Особенно тревожатся матери малолетних детей. Готовим, как убежище, подвал под бытовым музеем. Вечером получено сообщение о прорыве немецких танков у Соловы (в 12 километрах от Щекино)... Немцы в 20 верстах от Ясной. Тревога растет. Жутко.
28 октября. В усадьбе тихо. Тихо и в воздухе: аэропланы не летают. Затишье... Но, верно, перед бурей.
29 октября. Ясное утро. Погода летная. С раннего утра тревожно в воздухе: то пулеметы, то дальние разрывы бомб. В усадьбе суета: женщины, дети с чемоданами, с мешками перебираются в подвал бытового музея. Немецкие аэропланы над деревней, над усадьбой трещат пулеметами. Ухают бомбы поблизости. Две разрываются в самой деревне. Убит около своего дома П. Д. Орехов, председатель нашего колхоза. В 12 часов 20 минут началась настоящая воздушная атака: пулеметы обстреливают центр дома Волконского. Сыплются стекла, штукатурка. Над деревней самолеты летят почти на уровне крыш. Бои идут в стороне, — красноармейские части отходят, минуя Ясную Поляну.
В подвале бытового музея пищат ребятишки, охают и ахают женщины, прислушиваясь к канонаде. Стекла окон во втором этаже бытового музея со стороны фасада, обращенного на юг, с треском бьются и надают.
Все проносится, как вихрь, и в два часа дня уже узнали от прибежавшей в подвал девочки Сони Толстой, что по шоссе идут немецкие танки.
Вечером на усадьбе тихо. За деревней догорают, краснея, стога.
На деревне и около подобраны колхозниками около десяти убитых красноармейцев. Двух раненых спрятали в избах.
30 октября. Сегодня утром въехала в ворота усадьбы первая немецкая машина — легковой автомобиль. Вышли трое офицеров. Оказалось — врачи. Один из них — доктор Шварц — чисто, по-русски, без акцента объяснил нам, что немцы ищут места для организации перевязочного пункта. Осматривают музей. В книге посетителей записывают по-немецки странную запись: «Первые три немца в походе против России».
Пытаемся отстоять неприкосновенность музейных помещений. Немцы изысканно вежливы и любезны, обещают содействие. Наскоро пишут на листе писчей бумаги красным карандашом «охранную грамоту» для бытового музея: «Betreten verboten — Wohnhaus des TolstoÎ (grösster russicher Dichter)» с подписью майора (фамилия написана неразборчиво). По-русски это значит: «Входить воспрещено — дом Толстого (величайший русский писатель)». Может быть, и удастся сохранить дом в условиях войны?
* * *
К вечеру появилось человек двадцать немцев. Занимают контору музея, столовую, кухню в центре дома Волконского. Офицер что-то требует. У нас нет людей, хорошо знающих немецкий язык. Пытаюсь заговорить по-французски. Оказывается, офицер требует настойчиво кур, требует, чтобы я освободила свою квартиру. Тон повелительный, неприятный. Наскоро выбираюсь из своей комнаты. Один из офицеров схватил у меня в комнате старый номер «Известий», тычет пальцем в портреты членов правительства, приговаривая зло: «Jude, Jude». А мне, показывая на дверь моей квартиры, говорит: «Пады, пады». Очевидно — уходи, уходи. Приходится уходить.
* * *
Около дома Волконского интересная картина-жанр: немецкие солдаты ловят для господ офицеров наших кур. Переполох, кудахтанье, летят перья, а хозяйки кур стоят на крылечках и тихонько приговаривают: «Вот так культурные европейцы».
31 октября. Только вчера повесили охранное объявление на бытовом музее, а сегодня уже ясно, что оно навряд ли будет иметь какую-либо силу. С утра была вызвана, как знающая французский язык, к штабному врачу. (Stabsartzt). Потребовал перенести из литературного музея все вещи в бытовой, так как там в экстренном порядке должен быть развернут Verbandplatz (перевязочный пункт). Поспешно, беспорядочно все вещи немецкие солдаты переносят в бытовой музей. В передней сложены витрины, скульптуры, стулья, диван Льва Николаевича. К вечеру надеялись хоть немного разобраться. Но среди дня последовало распоряжение освободить научную комнату бытового музея и комнату Сергея Львовича. Беспорядок в доме бытового музея увеличивается.
Поразила такая деталь. Когда открыли комнату Сергея Львовича, то один из офицеров вскрыл комод с бельем Толстых и забрал его. Все требования предъявлялись в такой категорической форме, что наши апелляции о необходимости охранять имущество старшего сына Толстого звучали как жалкий, бессильный лепет.
* * *
В школе разместился штаб. К вечеру в музей явилась группа штабных офицеров-аристократов. Говорят по-французски лучше, чем врачи. Знание французского языка помогло мне до конца распознать эту «высшую» прослойку современной Германии. Интерес к Толстому у них поверхностный. Гораздо больше интересуются современной Ясной Поляной, при этом не могут скрыть неприязни ко всему советскому, русскому. Узнав, что музей находится в ведении Академии наук, засмеялись. Один молоденький фат с презрительной усмешкой спросил у остальных: «Какие же это «науки» в Советском Союзе?» Говорю об образцовой школе в Ясной Поляне. Удивлены, что в ней учатся дети крестьян. «Эти маленькие животные?!» («ces petits bêtes»). Расспрашивают о сыновьях, дочерях, внуках Толстого. Говорю о том, что они получают государственную пенсию. Жалеют родственников Толстого, так как в Советском Союзе «les aristocrates ne sont pas honorês» («аристократы не в почете»).
К крылечку, где шла беседа, подошли еще двое-трое работников музея. Тогда группа офицеров, отойдя немножко в сторону, неожиданно для нас запела, очевидно, чтобы досадить советским служащим, «Боже царя храни».
* * *
Шесть немецких солдат умерли от тяжелых ранений в только что развернувшемся Verbandplatz. Могилы для них роют около могилы Толстого. Это вызвало волнение и возмущение среди работников музея.
Ищу кого-либо постарше из немецкого начальства. Указывают на офицера из штаба. Высокий надменный блондин говорит по-русски с немецким акцентом. Волнуясь, убеждаю его, что никого нельзя хоронить около могилы Толстого. Рассказываю, что немецкие солдаты там уже роют могилы, что туда уже повезли кресты.
«А, понятно... Вам кресты, очевидно, мешают, а не могилы», — резко обрывает разговор надменный аристократ. Вынуждена прекратить ходатайство о неприкосновенности священной для нас могилы. Передо мною стена чуждого мира...
РАЗГРОМ МУЗЕЯ
1 ноября. Часа в два дня на квартиру ко мне прибегает немецкий солдат и, запыхавшись, просит открыть музей и показать его «большому генералу». Спешу. Уже издалека вижу, что генерал действительно «большой». Навстречу ему спешат из лазарета, из штаба офицеры. Перед бытовым музеем что-то вроде балета: офицерские спины и ноги приобрели сверхъестественную эластичность: изгибаются, расшаркиваются. А когда «der grosse General» движется вперед, все расступаются.
Я, кажется, не сумела быть достаточно дипломатичной и почтительной. «Der grosse» нетерпелив, по музею пробегает быстро, не придавая ему, очевидно, значения. Судя по всему, его больше интересует пригодность здания для военных целей, нежели культурные ценности, собранные в нем. Может быть, он хочет развернуть здесь свой штаб? Ясно одно: все это плохо для музея.
Один из штабных офицеров из свиты генерала, когда тот уже ушел, вернулся в музей минут через десять и попросил Сергея Ивановича еще раз показать ему все подробнее. Увидев редчайшие фотографии: «Толстой за работой в кабинете» и «Толстой и Маковицкий», забрал их, несмотря на протесты хранителя музея. Говорит, что это нужно как материал для берлинских журналов...
Очень интересуются господа офицеры, куда и когда эвакуированы основные ценности музея — книги, картины и т. д. Услышав, что все наиболее ценное вывезено в Сибирь, уверенно говорят: «Коммунисты, конечно, продадут все из Сибири американцам». Видимо, все меряют на свой аршин!
* * *
Оказывается, «большой генерал» — известный Гудериан. Не думала я, что с ним придется встретиться в музее.
2 ноября. Доктор Шварц, изъявляя готовность сохранить музейные экспонаты, сегодня предложил снять у него в лазарете весь настенный материал литературного музея. Признается, что не ожидал, что будет столько раненых.
Кондаурова, Васильева, Филатов, Марчина, я и Сергей Иванович с утра принялись снимать картины и фотографии в литературном музее и переносить в бытовой музей, где хаос все увеличивается.
Снимаем экспонаты в литературном музее, а по всему полу второго этажа на сене лежат раненые. Есть и тяжелые. Против экспозиции «Войны и мира» лежит немец с мертвенно-бледным лицом. Ранен в руку, в ногу и в голову. Тяжело хрипит, очевидно в агонии. Некоторые ценные экспонаты не можем снять, — для этого требовалось бы поднимать и передвигать тяжело раненных.
Удивляюсь, что раненые лежат на сене. Врач несколько смущен. Объясняет, что раненые остаются здесь только несколько часов, иногда день, два, а потом отправляются на автомашинах в Чернь.
На площадке между бытовым и литературным музеем — десятки крытых автомобилей. Здесь же расположена походная кухня. На шестах между деревьями висят туши свиней и коров. Изгороди, скамейки ломают и жгут на кострах.
3 ноября. С утра получили приказ — освободить второй этаж бытового музея. Все вещи из гостиной и ремингтонной переносят в зал. Наверху оставлены только две комнатки — зал и спальня Софьи Андреевны. Здесь хаос вещей. Все остальное занято немецкими офицерами.
Вот так «betreten verboten» — «входить запрещено»! Немногого стоит «охранная грамота», которую в первый день повесили немецкие офицеры на дверях музея. Одно утешение: теперь не надо будет показывать дом Л. Н. Толстого немецким офицерам.
Когда закончили переноску вещей и запирали дверь, ведущую в низ дома, один из офицеров мне сказал: «Вы отвечаете за порядок в музее». Что за издевательство! Тяжело...
* * *
Со стороны Тулы доносятся орудийные выстрелы.
6 ноября. С утра опять зовут в музей — показывать дом Толстого, хотя он наполовину уже превращен в офицерское общежитие. Требуют показать и вещи, сложенные в беспорядке в зале. Немецкий журналист что-то записывает в блокнот.
В группе посетителей выделяются фигуры двух белых эмигрантов: князь Демидов и князь Святополк-Мирский. Святополк-Мирский — сын министра внутренних дел, к которому в начале 900-х годов обращался Лев Николаевич с ходатайством о Горьком, заключенном в Нижегородской тюрьме.
Мирский с гордостью заявляет, что Святополк-Мирские были в свое время либералами. Но потомок не таков. Явно старается петь в унисон с немцами все ту же песенку: «Бей жидов». Показывая рояли, я говорю о профессоре Гольденвейзере, который был другом семьи Толстых в течение 17 лет, часто бывал в Ясной Поляне и играл на рояле для Льва Николаевича. Князь перебивает меня: «Так ведь Гольденвейзер — жид (jude), не поздоровится ему теперь». Jude — навязчивая идея у немцев...
Увидев самовар Толстых, Мирский берет его и, улыбаясь, говорит, что он давно уже мечтал о тульском самоваре и что поэтому мы должны отдать самовар Толстых ему. Эту «милую» шутку он повторяет и с другими музейными вещами.
Между прочим, князь напевает мотивы из оперетки «Иванов Павел», которая имела успех в Москве в 1913—1914 годах, а теперь совсем забыта. Видимо, жизнь для него остановилась на том рубеже. Все эти шуточки и песенки не идут к помятому лицу 45-летнего князя.
Князь Демидов держится строже. Упитанный розовый старик лет 55-ти чем-то напомнил мне околоточного надзирателя.
И Демидов, и Мирский — какие-то обломки старого режима. Говорят, — не знаю, правда ли это, — Демидова прочат в коменданты Тулы.
7 ноября. День хмурый, серый. Самолеты не летают. Часов с 11 до 4 через каждые 10 — 12 минут из Ясной Поляны бьет по Туле тяжелая немецкая артиллерия, установленная возле здания детского сада. Тула крепко держится. Доктор Шварц откровенно говорит, что длительное сопротивление Тулы для немцев явлется неожиданностью. В лазарет привозят много раненых.
8 ноября. Вечером прибегает встревоженная Марья Петровна Маркина, техническая служащая, 20 лет проработавшая в музее. «Немцы требуют открыть низ музея. Говорят, будто некуда раненых деть».
Сергей Иванович идет к музею. Дверные замки уже сломаны. Никаких раненых нет. В дом, толкая Сергея Ивановича, бурно врываются здоровые немецкие солдаты. Ложатся спать по всем комнатам низа, за исключением комнаты со сводами, где сложены груды мелких музейных вещей. Ну, теперь уже спета песенка дома-музея Л. Н. Толстого...
* * *
Ночью не могу заснуть от сознания, что ценности русской культуры топчутся и будут окончательно растоптаны немцами. Тяжело и обидно.
9 ноября. С утра вызваны для окончательной ликвидации бытового музея. Разрешают оставить как склад вещей только залу. Вещи переносят немецкие солдаты и наши сторожа. Зал переполнен, и часть вещей, по мнению немцев, «непортящихся», вытаскивают на террасу. Руки опускаются, ноги не двигаются. Чувствуем, что борьба за сохранение вещей бесплодна...
Характерен один момент. В передней стоял диван, на котором родился Толстой. Этот диван, одна из самых больших ценностей музея, был принесен сюда на днях из литературного музея, где мы его прятали от бомбежки под сводами.
Один из врачей (фамилии не знаю) приказывает солдатам нести диван в комнату с бюстом, где он намерен поселиться. Я отстаиваю неприкосновенность дивана, упорно повторяя одну и ту же французскую фразу: «Léon Tolstoi naquistur ce divan» («Лев Толстой родился на этом диване»), и предлагаю нашим сторожам Фоканову и Филатову тащить диван в зал. Немцы тянут его в одну сторону, наши сторожа — в другую.
Тут на мое счастье входят офицеры, которые уже бывали в музее. Обращаюсь и к ним, в отчаянии повторяя: «Лев Толстой родился на этом диване». Офицерам, видимо, неудобно. Они что-то говорят доктору, и он, сконфуженный, исчезает. Диван плывет на руках наших сторожей наверх, правда, прорванный в пылу борьбы.
Интересно, что доктор, отнимавший диван, на днях рассыпался в любезностях и заявлял: «Люблю Толстого, читаю его с шести лет». (Жаль, что не знаю его фамилии.)
Чувствуем, что трудно будет сохранить не только вещи, но и дом. Растет опасение, что памятник мирового значения усадьба Льва Толстого — погибнет безвозвратно. Немцы не придают музею никакого значения. Князь Демидов, играющий теперь роль коменданта в Ясной Поляне, говорит, что усадьба рассматривается теперь не как музей, а как поместье графов Толстых, которым будто бы и должны распоряжаться только наследники Толстого.
ВОРЫ И ВЕШАТЕЛИ
10—13 ноября. На яснополянском фронте без перемен. Изредка бухают выстрелы дальнобойных орудий. Очевидно, немцы бьют по Туле. Чуть небо прояснится, вылетают наши русские самолеты. Их обстреливают стоящие около школы огромные немецкие зенитки.
14 ноября. В ночь на сегодня и весь день немцы посылали отсюда на Тулу тяжелые артиллерийские снаряды. Где стоит батарея? Никто этого точно не знает. Но она где-то рядом, поблизости от усадьбы: слышен свист летящих снарядов, и слегка вздрагивают стекла. У всех русских подавленное настроение. Если снаряды посылаются прямо в Тулу, то от нее, наверное, ничего не осталось.
К вечеру тяжесть стала нестерпимой, — усадьбу облетела страшная весть. Около почты по приговору штаба, разместившегося в школе, повешены двое: Власов, молодой яснополянский крестьянин, и беженец, спасавший свою жизнь в нашей деревне. Дело в том, что на дворе Власова кто-то повредил ручной гранатой немецкую машину. Так вот, машина — Auto — расценена в две человеческих жизни.
Там же висит объявление с угрозой, что при повторении подобных фактов будут повешены четверо.
Не умещается в сознании, в сердце все, что творят европейские Mörder (убийцы).
Вспоминается толстовское «Не могу молчать».
* * *
Утром сегодняшнего же дня пошли я, Сергей Иванович и Мария Петровна в дом Толстого проверить сохранность музейного имущества. Шифоньерка в комнате Софьи Андреевны взломана. Была заперта на ключ, а теперь открыта. Что именно взято, без карточки трудно установить. Также открыт шкаф над лестницей. Солдаты говорят, что офицер Gotthardt унес к себе весы Софьи Андреевны.
Пошли с жалобой к главному врачу. Тот посмотрел на открытые шкафы, предложил их получше запереть и твердо заявил, что его солдаты не могут ничего взять (так они честны!). Доктор Шварц, знающий Gotthardt'a, обещал помочь нам вернуть весы.
Чувствуем себя бессильными бороться за сохранность музейных вещей. Внизу увидели, что печь топят... столом из буфетной. Нет и вешалки одной в передней, очевидно, тоже в печь попала. Обращаемся к солдатам, просим не жечь мебель, говорят, что начальство разрешило.
Подобрали еще кое-что: фото из комнаты для приезжих, зеркало и лампу из передней и втиснули и залу, туда как будто бы еще не залезали немцы.
Тяжело ходить в музей. Все клумбы вокруг него, все кусты, все изгороди растоптаны, поломаны автомобилями и заезжающими иногда для починки танками. Всюду грязь.
16 ноября. Идем вчера к лесному колодцу за водой, навстречу крестьянин на розвальнях везет раненого мальчика из Крыльцова. И там неспокойно...
* * *
Повешенные продолжают висеть в назидание всему местному населению. Врачи, офицеры, такие любезные вначале, теперь ходят хмурые, неприветливо поглядывают на окружающих русских. Не рассчитывали они, очевидно, на такое длительное пребывание на подступах к Туле. Вначале, улыбаясь, говорили, что в усадьбе поселились «zi kurze Zeit» [На короткое время.], а вот сегодня уже девятнадцатый день сидят у нас...
* * *
Утром я, Сергей Иванович и Мария Петровна собрались в очередной обход — посмотреть, сохранились ли настенные экспонаты из литературного музея, спрятанные нами в шкафах в комнате для приезжих бытового музея. Там поселились офицеры. Они уверяли, что можно оставить все экспонаты в шкафах, ручались за целость...
Стучимся... Не пускают... Требуют записку от [Штабврач.]. Иду в Stabsartz. Провожает солдат. В бывшей музейной конторе чисто. Длинный стол накрыт белой скатертью, — очевидно, здесь столовая для врачебно-медицинского персонала. Artz сидит около печки, а солдат пишет с него портрет маслом.
Говорю ему, чтобы разрешил взять картины в комнате у офицеров. Посылает со мной солдата. Тот передает офицерам приказ штабного врача, и мы приступаем к уборке материала. Видим: картины, фотографии из шкафов вынуты и лежат наверху, а шкафы заняты вещами господ офицеров.
Снимаем ценнейшие экспонаты со шкафов. Здесь не все. Вместо многих фотографий остались пустые рамы и стекла. Все лучшее забрано господами офицерами. Не могу сдержаться и спрашиваю в упор: «Wo sind die Wilder?» [Где картины?]. Физиономии кривятся, делаются злыми и колючими. Взрыв возмущения, благородного негодования: разве может немецкий офицер что-нибудь взять?
Но ведь три дня тому назад, когда они вселялись в эту комнату, все было цело. Охаем, ахаем, собираем остатки, переносим в переднюю, чтобы потом убрать в зал.
Проходящие солдаты останавливаются, интересуются экспонатами. Смотрят на фото «Горький и Толстой». Объясняю, что это Горький в гостях у Толстого, что этот снимок сделан здесь, в Ясной Поляне. Спрашиваю: не запрещен ли у них Горький. Говорят: да. Проходящий мимо офицер резко выкрикивает: «Не рассказывайте здесь разных историй!» (Geschihten.) Нервничают господа офицеры; наверное, я попаду у них в число неблагонадежных.
Жалкие остатки литературных экспонатов убрали в зал. Наложили пломбу. Но вряд ли интересные мелочи уцелеют.
Иду в комнату под сводами проверить целость спрятанных там карточек. Все на месте. И то хорошо...
18 ноября. Война, как быт... Летают самолеты, стреляют орудия. В кухне у нас греется Курт — шофер.
19—20 ноября. Ни выстрелов, ни взрывов. Вильгельм (шофер) говорит, что Тула в кольце, что немцы не будут ее брать силой, а возьмут измором: «Когда нечего будет русским солдатам есть, сами выйдут и у нас потерь не будет», — торжествующе заканчивает он.
* * *
В Щекино, по слухам, немцы повесили 14 человек. Очевидно, в каждом населенном пункте, согласно воле «победителей», должен быть определенный процент повешенных. В Ясной Поляне — два, в Щекино — четырнадцать.
* * *
Положение учителей, музейных работников — дурацкое, неопределенное. В здании школы немцы топят печи партами и книгами. Орлов попробовал протестовать. Ему заявили:
— Школы у вас не будет.
Так же и о музее говорят. Музея не будет, будет поместье Толстых.
Пытались добиться получения хлеба. Давно уже подали списки музейных работников и учителей князю Демидову. Но он не удостаивает нас разговором. О хлебе пока ничего не слышно. Питаемся почти исключительно картошкой, поэтому прихварываем.
Четвертую неделю живем без хлеба! Только иногда получаем в виде милости кусочек от постояльца-немца. (Один Вильгельм из четверых, поставленных к нам на квартиру, иногда догадывается поделиться с нами.)
Крестьянам немного лучше: большинство из них имеет кое-какие запасы продовольствия. Князь Демидов пытается с ними заигрывать. Оно и понятно: ведь это будущие кормильцы «des Grossen Deutschlans» (Великой Германии).
Кто же такой, наконец, князь Демидов? Говорят, что он назначен комендантом Тулы, а здесь только ждет, пока для него освободят «город». Но в то же время он чувствует себя хозяином Ясной Поляны.
На днях пришли немцы в коровник к Арине Ивановне и потребовали хорошую корову. Арина Ивановна протестовала. Те стали угрожающе показывать кулаки. Отдала. А вечером явился Демидов и начал проверять, куда делась корова. Отчитал Арину Ивановну — зачем отдала. Уж не считает ли он себя наследником Толстого? Похоже на то, что Ясную Поляну он рассматривает, как свою собственность.
ГРАБЕЖ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
22 ноября. Очередная «забота» немцев о музее. Приехал подтянутый офицер, говорящий по-французски. Предложил в течение двух часов собрать все ценное в зал и в подвал, так как он уполномочен наложить печати на музейное имущество.
Говорю, что за два часа не успею перенести вещи с террасы в подвал, так как обслуживающий персонал живет в деревне. Офицер торопится. Наклеивает бумажку с четко отпечатанным текстом: «Beschlagnahmt fúr Oberkommando der Wehrmacht. West. W. Pr» [«Конфисковано для верховного командования вооруженных сил».] на одной из дверей, ведущих в зал. Настойчиво расспрашивает меня, много ли вещей пропало. Физиономия у него ехидно-насмешливая. В памяти свежо впечатление от озлобления офицеров, когда я их спросила, куда исчезли картины и портреты из комнаты для приезжих. Вынуждена уклониться от прямого ответа.
23 ноября. Говорят, что завтра часть, стоящая в усадьбе, передвинется дальше на восток, а здесь разместится или госпиталь или «infanterie» (пехота). Сердце сжимается: говорят, что пехота будет похлеще, чем санитарный отряд.
* * *
Картинка усадебного быта сейчас:
Дмитрий Семенович и Борис Сергеевич — наши сторожа — тащат какой-то шкаф с террасы (между прочим, молодцы: работают, когда вызовем, без всякой оплаты весь месяц), я тащу какой-то маленький круглый столик — спрятать в подвал. Вдруг мимо двое немцев гонят лучшую музейную корову. Гонят на убой («бойня» у них в сарайчике против белой кухни), бьют ее по вымени сапогом. Бежит Гришин навстречу немцам, кричит, что корова стельная, что надо взять другую. Не слушают, по-русски не понимают. Подхожу и объясняю на ломаном немецком языке, что скоро у коровы будет «сын или дочь», так как не знаю, как по-немецки слово «отелится». Смеются. Говорю, что в коровнике есть три коровы из гуртов, пригнанных немцами на убой. Нехотя идут с Гришиным обратно. Музейная корова спасена.
Минут через двадцать в сарае раздается выстрел — значит, убили другую корову.
25 ноября. Раннее утро. Чуть брезжит свет. Спим еще. Вбегает в комнату Мария Петровна.
— Что же делать? Увозят, увозят, проклятые, вещи из музея. Говорю им «Museum, Museum» [Музей, музей.] — не слушают. Пойдемте. Помогите.
Быстро одеваюсь, бегу. Перед бытовым музеем огромный крытый грузовик. Снуют солдаты. Говорю им просительно: «Bitte, nehmen Sie nicht Museum's Sachen» [Пожалуйста, не забирайте музейных вещей.]. В ответ — легкое рычание. Слов не разберу, но смысл понятен: «Не суйся, куда не просят».
Хочу проникнуть через переднюю к офицерам, упросить их сохранить вещи. В передней еще больше солдат с винтовками. Снова громкое рычание и ругань: «Sacramento, sacremento!» Легкое подталкивание в шею: «Hinaus, fort!» [Вон, прочь.]
Мария Петровна лепечет: «Уйдем, уйдем скорей, Мария Ивановна». Приходится уходить.
* * *
В десять часов, когда из бытового музея выехали почти все немцы, прихватившие с собой ценные музейные вещи, идем со сторожами унести оттуда хотя бы то, что осталось. Приходим в ужас от увиденного: не музей, а авгиевы конюшни. В комнатах сено, рваные бумажки, огрызки хлеба, рваные сапоги. В библиотечном шкафу лежало пять томов «Всемирной географии». Книги изрезаны бритвой — вырезали цветные иллюстрации.
Дверь из кабинета на балкон приоткрыта. Вышли туда и ужаснулись: весь балкон загажен, — видимо, немцы ночью ленились ходить в уборную. Уносим из комнаты под сводами остававшуюся там музейную мебель. Попутно констатируем, что в столе замки вскрыты.
На одной из дверей зала наша пломба и охранная табличка, оставленная 22 ноября приезжим офицером, — «Beschlagnahmt» [Конфисковано.] сохранилась. Вторая дверь была задвинута изнутри плотно мебелью. Мы были спокойны за сохранность вещей, собранных в зале. Проверяем вторую дверь, и — о, ужас! — вещи какой-то чудовищной силой отодвинуты; очевидно, в зал входили, минуя запечатанные двери. Что стащили, сейчас не узнаешь.
Дверь запираем.
Интересно, что первую немецкую охранную грамоту «Betreten verboten» [Вход воспрещен.] мы нашли на полу в комнате под сводами, растоптанную чьим-то сапогом. Никакой силы эта «филькина грамота» не имела. Кончился наш музей...
25 ноября. Занялась переноской картофеля из подвала в квартиру, чтобы спасти наше единственное пропитание от расхищения. Дело в том, что немецкие «Kulturträger» [Носители культуры.] теперь принялись за частные погреба и квартиры. К Гришину вошли вчера вечером и взяли со стола горящую лампу. Когда хозяин запротестовал, ему пригрозили револьвером. Сегодня утром у жены Гришина забрали со стола сахар, хлеб и огурцы. У Литвиновой, голодающей с тремя детьми, требовали муки, спрашивали, где у нее обручальное кольцо.
* * *
Вечером, чтобы немного успокоиться, иду с Софьей Алекс. на могилу Льва Николаевича. На могиле не была ни разу с тех пор, как узнала, что там хоронят немецких солдат и офицеров. Подходим. Белеют ряды березовых крестов. Свободно от немецких могил только небольшое пространство до загородочки из прутьев, обрамляющей дорожку к могиле Льва Николаевича. Слева от дорожки насчитала 75 могил, расположенных с немецкой правильностью прямыми рядами.
Дикое и страшное сочетание.
25 ноября. В двенадцатом часу ночи стала беспокоить канонада. Вышла на улицу. Канонада доносится со стороны Тулы. Там вспыхивают зарницы.
* * *
Днем вызывают в литературный музей для переговоров. Приехали новые врачи, — здесь будет новый «Verbandplatz» [Перевязочный пункт.]. Требуют, чтобы мы убрали всю грязь, оставленную первым перевязочным пунктом.
В одной из комнат находим на носилках раненую женщину с раздробленным бедром, — желтую, измученную. Она в полузабытьи. Зовут ее Наталья. Оказывается, третьего дня ее привезли сюда из деревни. Просили немецких врачей сделать перевязку. Они бросили ее... Наталья ничего не ела и не пила. Лежит грязная, в своей окровавленной одежде, в валенках.
Принесли ей молока, покормили. А перевязать нам ее нечем. Явились санитары из нового «Verbandplatz», потребовали, чтобы мы ее немедленно убрали. Приезжают из колхоза, отвозят раненую на лошади на почту. Аптекарша Антонина Устиновна обещает оказать помощь.
27 ноября. Водила трех врачей по авгиевым конюшням, то есть по бывшему дому Льва Николаевича. Опять обещают дать запретительную бумажку. Но что стоят эти бумажки! Мы получали их уже дважды, а вещей в музее становится все меньше.
28 ноября. Весь день посылаются с громом снаряды «nach Tula» [В Тулу.].
29 ноября. Опять бьет немецкая тяжелая артиллерия «nach Tula». Нервы напряжены до предела, а тут еще новое вселение на квартиру немецких унтеров. Принесли сена, натоптали. Комнаты превращены в конюшню. Приходится прятать лампу и сидеть с коптилкой, — немцы всюду отбирают лампы для себя.
30 ноября. Сегодня разревелась. С утра переносили книги Татьяны Львовны во вторую комнату Сергея Львовича. Книги из научной библиотеки частично перетащили к себе на квартиру, — их растаскивают безбожно. Устали. Вечером захожу в бытовой музей, — снова тарарам. Приезжает новая часть, и немцы требуют освободить и вторую комнату Сергея Львовича.
Вдруг Мария Петровна кричит:
— Подите сюда, подите сюда, Мария Ивановна!
Она тащит меня в буфетную. Окно из буфетной сломано. Валяются какие-то тряпки. Проклятые немецкие крысы лезут повсюду. На двери висит охранная табличка «Beschlagnahmt». Никому из нас в голову не приходило, что немцы могут проникнуть внутрь, минуя двери. Они взломали маленькое окошечко, наглухо заделанное деревом.
Нервы не выдерживают. Реву от сознания своего бессилия. Нет, и жалкие остатки дома Толстого погибнут!
ЯСНАЯ ПОЛЯНА В ОГНЕ
1—2 декабря. Все еще гремит канонада. Тяжелая, надрывающая сердце музыка. А кругом... кругом стон стоит. Все бесцеремоннее и наглее ведут себя немцы, особенно в деревне. Три бабы в Ясной Поляне изнасилованы.
К нам пришел черномазый офицерик и потребовал кровать, матрац и подушку. Говорим, что у нас нет (действительно, мою кровать, подушку и одеяло увезли с собой немцы). Идет на половину Сергея Ивановича, тащит последний матрац с постели. У Марьи Федоровны утащили подушку, кровать и матрац. У Литвиновой украли подушку. В квартиры входят бесцеремонно, отталкивая мешающих им русских...
В здании литературного музея горит электричество. Часовые строго охраняют помещение. Говорят, что это помещение берегут для генерала, который должен сюда приехать. В дом Волконского пока никого не вселяют. Это подозрительно: как бы не выгнали совсем, ведь выгнали из школьного общежития всех учителей!
Убежала бы, куда глаза глядят, только бы не видеть эти серо-зеленые шинели! Но вот податься некуда! Здесь голодно, но все-таки у нас есть запас картошки, чтобы не умереть. Раздобыли по 5 килограммов ржи, толчем ее в ступке и печем из картошки с примесью «ржаной муки» что-то вроде хлеба.
5 декабря. Прибыли новые немецкие части. Новое испытание для населения. Немцы из этих частей еще наглее тех, что были раньше. С Ивана Васильевича Егорова прямо на дороге, среди деревни, сняли валенки. У Коняевой забрали мануфактуру. С учителя старика Преображенского тоже сняли валенки. Таких фактов множество.
«Какие-то дикие стали являться к нам в избу, — рассказывает Елизавета Васильевна, учительница музыки, приютившаяся с сестрой-старухой и древней своей матерью в одной из крайних изб деревни. — Сегодня утром вбегают двое и требуют хлеба, а у нас у самих его нет. Предложили им вчерашнюю холодную картошку — съели, потом полезли в горящую печь, достали недоваренную картошку и ее тоже съели. Потом пришел еще один, забрал два наших стула и скрылся...»
Ночуют у нас двое, вместе с нами в одной комнате. Очень чешутся.
Со всех сторон несутся жалобы: там взяли, там съели, там украли последнее добро у полуслепой нищей старухи...
Немецкий генерал в здание литературного музея, очевидно, так и не приехал. Все неожиданности какие-то у немцев! Очевидно, дела у них идут неважно, хотя они об этом стараются не говорить.
Сегодня хотела обратиться к офицеру Wettig насчет охранных бумажек для музея, но его и след простыл. Теперь договорились, что в среду, 10 декабря, эти грамоты даст мне Sonderführer [Особый начальник.], какой-то «чрезвычайный» начальник, поселившийся со штабом в бытовом музее.
Этот Sonderführer — личность занятная. Он русский, типичный белый эмигрант. Кто он, фашисты не говорят, но, очевидно, происходит он из видной знати. Такие еще хуже немцев: боятся, что их заподозрят в симпатиях к русским, и потому зверствуют необычайно.
Когда Марья Петровна начала при нем причитать по поводу того, что немецкие солдаты сожгли дверцы от шкафа Сергея Львовича, он очень недвусмысленно зыкнул: «Держите язык за зубами!»
10 декабря. В будке, где водокачка, сидят несколько наших русских под стражей. Две бабенки околачиваются перед зданием бытового музея, ждут Sonderführer, охают. Оказывается, у них арестовали мужей, отправившихся со станции Ясная Поляна в деревню. Идем с ними вместе. С водокачки их окликают мужья. Часовой рычит, как собака. Я пытаюсь его смягчить, говоря на ломаном немецком языке.
Смягчить часового не удается, он нас прогоняет. Все же бабы, ободренные, снова идут к Sonderführer. Теперь они, по крайней мере, точно знают, что их мужья здесь и живы. Лица их измученные.
11 декабря. Никаких грамот от Sonderführer я не добилась — события развиваются так, что немцам теперь не до музея. В ночь на сегодня (или на вчера?) от Тулы прорвались, как говорят, наши части, и немцы собираются отступать. Они объясняют подготовку к отступлению «стратегическими» соображениями: будто бы им нужно... выманить силы русских из Тулы, а потом ударить по ним. Объяснение очень странное!
Во всяком случае у немцев на усадьбе все наготове. Машины стоят с заведенными моторами.
12 декабря. Сегодня ночью на усадьбе почти не было немцев. Воспользовались случаем, чтобы напилить дров. До этого боялись выносить пилу — немцы ее отняли бы.
Пилим дрова, а немецкие батареи, стоящие у нас за деревней, шлют снаряд за снарядом не то в сторону Тулы, не то в лес.
* * *
Тяжелая артиллерия не дает спать. Окна дрожат от грохота снарядов. В аллее на знаменитом «прешпекте» сломано штук восемь елей. Метель. Ветер. Оттепель.
Немцы отступают, теперь это уже окончательно ясно. Вот если бы их прогнали далеко, далеко! Мы сидим, словно под арестом: не пускают уже третий день даже к колодцу у Воронки за водой. Пьем воду из среднего пруда.
Вчера немцы привезли сюда трупы своих убитых.
14 декабря. Утро. Иду за водой на средний пруд. Над головой новый незнакомый звук: тонкий свист, похожий на звук сирены. И вдруг невдалеке разрыв снаряда. Тут только поняла, что это не сирена, а полет снаряда.
Немцев на усадьбе совсем мало. В деревне последние из уходящих немцев отбирают свиней, овец, коров. У нас взяли одну из музейных коров. Остальных трех успели спрятать в сарае, в саду.
У здания литературного музея еще стоит машина. Свистят снаряды — видимо, бой идет где-то совсем близко. Часов в 9 —10 вдруг поднимаются клубы дыма со стороны лесничества и больницы. Все больше и больше дыма.
Оказывается, немцы подожгли, отступая, лесничество, больницу и дом отдыха. Деревня в панике: ползет слух, что немцы все сожгут. Все готовятся покинуть свои дома.
Вспыхивает пламя над огромной школой имени Толстого. Волнение растет: вероятно, подожгут, проклятые, и музей!
Под свист летящих снарядов перебегаю к дому Толстого. Здесь остались только одиночки-немцы. Зову уборщицу Маркину, пытаемся войти в дом. Навстречу немецкий унтер-офицер. «Hinaus, hinaus!» [Вон, вон!] — гонит вон. «Wohnhaus — in die Luft!..» [Дом на воздух!]
Но теперь уже можно не слушаться. Бегу и созываю рабочих и служащих — надо спешить спасать музей. Из окон дома Толстого уже вырываются клубы дыма.
Войти страшно. Положение спасает молодежь: Павлик Комаровский, врач Илюшин, Клавдия Литвинова смело вбегают в дом. Они кричат нам, что подожжены три комнаты, но борьба с огнем еще возможна.
Ни пожарной машины, ни воды (немцы сломали колодец). Носим снег, хватаемся за вещи в нижнем этаже — хотим выносить. Вдруг осеняет мысль: а нет ли воды в старом колодце? Сбиваем с него доски. Вода есть! Положение спасено...
До сумерек идет борьба с огнем. Мы поднимаем полы, пробиваем потолки, гасим пламя.
Вечером у всех чувство удовлетворения: дом спасен. Конечно, все изуродовано, обезображено. Ничего, теперь восстановим — ведь немцы уже бежали.
15 декабря. Утро. Первые красноармейцы. Жадной толпой окружаем их.
Рассказываем о пережитом. Требуем и требуем новостей.
А новости такие, что и мертвый воскреснет: немцев гонят по всему фронту!
ОТ АВТОРА
Записи о происходившем в Ясной Поляне велись в тяжелых условиях оккупации музея усадьбы Л. Н. Толстого немецко-фашистскими захватчиками.
Работа научной сотрудницы музея-усадьбы связала меня крепко с местом рождения, жизни и напряженной работы величайшего художника слова Толстого. На долю работников музея выпала высокая честь охраны дома Толстого от разрушителей культурных ценностей мирового значения. Тяжела была борьба для сил маленького коллектива, но сознание ценностей наследия Толстого и глубокая уверенность в конечной победе Красной Армии над немецкими вандалами все время поддерживали нас. Сознавая историческую необходимость запечатлеть все, что происходило в Ясной Поляне, я вела краткие ежедневные записи, отражавшие борьбу за целость музея-усадьбы.
Эти черновые необработанные записи дневника, несовершенные по своей форме, приобрели характер исторического документа в связи с нашей общей борьбой за сохранение мировой культуры от вандалов.
Ясная Поляна, 27 декабря 1941
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:
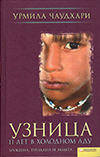
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





