ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
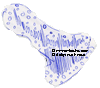

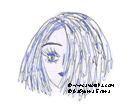
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Ожешко Элиза 1866
Послушайте, прекрасные господа и дамы, я расскажу вам коротенькую
историю.
Приходилось ли вам когда-либо, с блистательной вашей высоты, бросить
взгляд на самые низы, проникнуть в глубь тех темных, обездоленных, лишенных
всего прекрасного слоев общества, чей удел — тяжкий труд. Видели ли вы, какие
страдания клокочут там на самом дне, какие муки раздирают изнутри эту — мутную
в вашем представлении — живую человеческую волну?
О прекрасные господа и дамы, вы всегда думали, что в этих грубых,
неприглядных низах одна только грязь и тупость; чего же ради туда заглядывать?
Поистине так; если вы не хотите омрачать свое сияющее радостью лицо, не
приближайтесь к народу; идите лучше в залитые ярким светом люстр благоухающие
гостиные, веселитесь там и танцуйте. Но если среди вас есть сердца, которым
дорога не блестящая внешность, а самая сущность человеческая, если есть умы,
которые хотели бы исследовать причины общественных бедствий, то пусть
присмотрятся они к жизни миллионов, тяжелой, бесцветной жизни, — ведь более удачливые
люди редко судят о ней правильно; гораздо чаще они чернят и оплевывают ее. Там
ваши сердца найдут жизненную драму и цель любви, а умы приобретут знания,
побуждающие их стремиться к прогрессу, такому прогрессу, который приблизит
счастье не для одиночек, не для избранных, а для огромного большинства.
Моя история будет очень короткой. Это одна из миллион раз повторяющихся
на земле драм, которые разыгрываются среди бедной и темной части человечества,
а затем исчезают, не оставляя и следа. Весть о ней дошла до меня, и я с
удивлением задумалась над тем, что до сих пор еще на божьем свете происходят
такие драмы.
Итак, прекрасные, просвещенные господа и дамы, послушайте историю о
страданиях людей бедных и темных.
Удивительно печальными были годы 1854, 55-й и 56-й. Голод, страшный
голод адскими муками терзал грудь народа; тысячи людей, труду которых страна
обязана и хлебом насущным и праздничным изобилием, погибали голодной смертью.
Горестный, тяжкий, отчаянный стон исторгался из груди народа: «Хлеба!
хлеба!» — эхом отозвался он в небесах и поплыл по земле. Небо послало
сильнейший зной летом и обильнейшие дожди весной; рожь гнила в долинах, горела
на холмах. Процветающая братия веселилась, а народ из последних сил взывал:
«Хлеба! хлеба!»
В который из упомянутых выше трех лет — не знаю, в какой местности — не
скажу, стояла белая, красивая господская усадьба. Большими, чистыми окнами дом
как-то светло глядел на мир, по крыльцу вились вьюнки, а вокруг росла ровно
подстриженная трава, усеянная маргаритками и ландышами. За воротами
расстилались обширные поля и луга, пестрые, как ковры. Через луга бежала речка
— узкая, но глубокая и быстрая; за речкой к поросшему можжевельником холму
притулилась серая, убогая деревушка. Несколько высоких крестов виднелось за
низкими хатами, а неподалеку, сверкая белизной коры, тихонько шумела березовая
роща, словно хотелось ей грустной песенкой своей листвы убаюкать бледных
деревенских ребятишек,
В усадьбе жил молодой, богатый пан; он недавно женился, кажется, где-то
в большом городе. Пан был добрый — не обижал людей, не бил их, не ругал, но и
не знался с ними; да в этом и не было нужды, ведь у пана были на то экономы. К
тому же о чем бы он стал разговаривать с темным народом? Пан постоянно читал
книжки, но кто угадает, много ли хорошего он в них вычитал, если не смог по ним
научиться братской любви! <...> Часто приезжали гости; пан радушно
выходил им навстречу, мужчин целовал, дамам кланялся, приглашал их в красивые
залы, и не раз поздней ночью из широких окон белого дома доносились оживленные
голоса, веселый смех и прекрасная музыка.
У пани личико было белое, как лепесток лилии, алые губки, большие черные
глаза; ручки — крошечные, а осанка царственная. Она была добрая, потому что
никого не бранила и не обижала, но мужиков не терпела. Неприятен ей был запах
сермяги и звук грубой народной речи. В родительском доме она крестьян никогда
не видела и всегда слышала от отца, что они лентяи и воры, а от матери — что с
простонародьем водиться не следует. Впрочем, к чему ей было знаться с мужичьем?
Разве мало у нее знакомых прекрасных дам и господ? Пани постоянно играла на
рояле, но кто угадает, какими звуками наполняла музыка ее сердце, если не
наполнила его звуками братской любви!..
В деревушке жило тридцать крестьянских семейств, и над ними властвовал...
страшный, безжалостный голод.
Одна из хаток этой деревушки стояла несколько поодаль, окруженная
деревьями; она казалась какой-то особенно чистой и приветливой, хоть была
низкая и серая. Это была хата Шимона Харвара, прежде богатого хозяина. И в самом
деле, Шимон был когда- то богат — имел двух лошадей, пару волов, и хлеба ему
обычно на весь год хватало, а чего же больше крестьянину нужно? Но пришли
неурожайные годы, и оказалось, что богатство Харвара не было бездонным. Продал
он одну лошадку, потом другую, один вол сдох, а там и ржи не стало. Работал
Харвар и водки не пил, но не помогли ни трудолюбие, ни трезвость; донимал
голод. Осенью в хате Харвара пекли хлеб из ячменя, зимой из мякины, а на весну
и мякины не хватило... начали есть траву. Харвар плакал и вытирал слезы рукавом
рваной сермяги. Пошел в усадьбу просить хлеба; в усадьбе дали ему гарнец ржи на
неделю; разве мало для мужика? Для Харвара оказалось мало, потому что у него
была жена и дети. В понедельник и во вторник ели в хате болтушку из господской
ржи, а потом снова варили и ели траву. Харвар плакал, потому что у него была
жена и дети.
А детей у Харвара было четверо. Самый младший либо спал, либо кричал в
колыбели, сплетенной из ивовых прутьев и висевшей на толстых веревках в углу
хаты; второй ползал по земле, а чаще всего сидел вместе с кошкой под лавкой;
третья — девочка-подросток, днем присматривала за младшими детьми, а по вечерам
дремала, свернувшись на печке; четвертой и самой старшей дочке Харвара, Ганке,
было лет пятнадцать. Она слыла красивейшей девушкой в деревне. Высокая и
тонкая, словно загляделась на березку в роще, когда росла; глаза — голубые, как
незабудки, и взгляд какой-то такой милый, что хочешь не хочешь, а полюбишь
девушку; густые светлые косы либо обвивали ее загорелый, но гладкий и чистый
лоб, либо, распущенные, ниспадали до пояса из-под белого платочка.
Когда Харвар еще не знал бедности и в его хате ели не траву, а хлеб,
Ганка, бывало, нарядится в красный корсажик, повяжет бусы на шею, в светлые
волосы вплетет пунцовую ленточку, и парни со всей деревушки глаз от нее отвести
не могут, хоть была она еще слишком молода, чтобы сватов к ней засылать.
А среди деревенских парней самые нежные и самые пламенные взгляды кидал
на Ганку восемнадцатилетний Василек Хмара. Молодец-молодцом. Трезвым и дельным
вырос он работником. Честный, рассудительный — по глазам видно; лицо румяное,
так и пышет здоровьем. Ганка давно знала Василька. В детстве они вместе пасли
стада; потом, когда она начала матери помогать по хозяйству и бегала по воду к
колодцу, там всегда оказывался Василек; он отнимал у нее ведерко, набирал воды
и нес до хаты, а она шла рядом, и они разговаривали и смеялись так весело и
громко, что даже соседки выглядывали из-за плетней.
Когда они вместе работали в усадьбе, Василек всегда помогал Ганке, а
возвращаясь домой, просил ее, чтобы она ему за это спела песенку; Ганка пела, а
парень смотрел на нее горящими глазами. И девушке хорошо было с веселым и
рассудительным Васильком. С ним, бывало, охотнее она идет на барщину и матери его
ниже, чем другим женщинам, поклонится, а если долго с ним не видится, то глядит
на дорогу, которая ведет в деревушку, пока синие глаза слезами не затуманятся,
и на сердечке как-то печально становится, что и божий свет не мил.
Могучая сила, которая, кажется, и в салонах и в деревушках одинаково
именуется любовью, взаимно притягивала двух чистых и юных детей природы и народа.
Однажды — еще в те времена, когда в Харваровой хате водился хлеб, а
Ганке было лет четырнадцать, — пропала у Харвара овечка и на розыски послали
Ганку. Девушка долго бродила по полю, солнышко уже близилось к закату, когда
встретила она Василька. Они вместе стали искать, далеко от деревни нашли
овечку, и, гоня ее перед собой, медленно возвращались домой. Вечер был тихий,
ласковый, один из последних летних вечеров; шумела березовая рощица, вдалеке
парни играли на свирелях, и как-то так красиво и вместе с тем печально было на
божьем свете... Грусть охватила Ганку и Василька... Они шли молча.
— Ганка, — сказал, наконец, Василек, подняв голову и глядя на нее. —
Никто к тебе сватов не засылал?
— А кто же? — прошептала в ответ зарумянившаяся Ганка. — Нет. Никто не
засылал.
— А если бы кто-нибудь заслал сватов? — спросил Василек, глядя то в
землю, то на девушку.
— Ну и что же, — ответила она. — Я попросила бы матушку, чтобы она их не
приняла.
— Почему ты попросила бы матушку, чтобы она их не приняла?
Девушка не ответила, только опустила глаза.
— А если бы я к тебе сватов заслал? — снова спросил Василек.
— Уж вы скажете, Василек! — прошептала, вся зардевшись, Ганка.
— А если бы я заслал, — настаивал парень, — ну, что же, скажите, вы тоже
попросили бы матушку, чтобы она их не приняла?
— Я попросила бы, чтобы она приняла их, — сказала Ганка и закрыла лицо
рукой.
Они стояли тогда у опушки березовой рощи; ласково шумел ветер, грустно
играли свирели, небо было ясное. Счастливый, влюбленный Василек обнял смущенную
Ганку и в первый раз жарко поцеловал ее.
Ганка и Василек крепко любили друг друга. Их родители знали об этом и с
одобрением относились к чувству детей, но справить свадьбу не имели возможности;
отложили, стало быть, венчание до лучших времен. Молодые не жаловались на
отсрочку, потому что хорошо им было вместе работать, и любить друг друга, и
мечтать...
Мечтать!.. Странное выражение, когда речь идет о мужиках! Разве мужики
мечтают? О да! И мужики мечтают, пока они молоды и не замучены жизнью и тяжким
трудом, пока не заглушат в себе человеческих чувств водкой, потоками плывущей
из господских винокурен.
Итак, Ганка и Василек мечтали о будущем. Не раз в праздничные дни, сидя
на пороге хаты, беседовали они о том, что вскоре поженятся, будет у них своя
собственная хатка, чистая, белая. Отец даст Ганке корову, мать — полный сундук
красивых юбок и белых рубашек с красной вышивкой. Ганка будет в своей хатке
хорошей хозяйкой, а Василек станет работать не жалея сил, чтобы облегчить ей
труд, и никогда, никогда в жизни хмельного в рот не возьмет; на стенах они
развесят позолоченные образки; перед хатой засадят грядки ноготками и красными
маками, а любить друг друга будут крепко, крепко, всегда, горячо; да и как же
им не любить друг дружку, если им вдвоем так хорошо!
Молодые мечтали, время текло, день кончался, месяц освещал их
светловолосые головы, а они все еще сидели на пороге хаты, держались за руки,
глядели друг другу в глаза и разговаривали тихо, ласково, чистосердечно.
Иногда, проходя вместе с Ганкой мимо господской усадьбы, Василек
указывал на белый, светлый дом пана и говорил:
— Как там, должно быть, красиво, Ганка!
А она отвечала:
— Если бы я была богатой пани, то вышла бы за тебя замуж и мы жили бы в
таком же прекрасном доме.
— Хорошо нам будет и в нашей хатке, лишь бы мы поженились, — говорил
юноша, и оба без зависти смотрели на богатую господскую усадьбу.
Прошла зима, тяжкий голод загнул всю деревню; в хатах Василька и Ганки
не стало уже хватать и ячменного хлеба.
Быстро поблекли лица молодых людей, глаза Василька ввалились, и
постепенно угасла живая лазурь глаз Ганки, ибо голод — это страшный
разрушитель: он точит грудь, чернит лицо и гасит блеск очей. Молодые люди,
однако, не жаловались и работали как могли. Только Василек редко теперь
смеялся, а Ганка перестала петь, но любили они друг друга по-прежнему, даже еще
крепче.
Пришла весна, не стало хватать хлеба и из мякины. Брали у пана по гарнцу
ржи на неделю, но трудно было прокормиться одним гарнцем семь долгих дней,
потому что в хате Ганки жило трое взрослых и трое детей, а у Василька — пятеро
взрослых и двое детей.
Лицо юноши становилось все более и более бледным, еще глубже ввалились
глаза, и с каждым днем все заметнее угасали очи Ганки; ее высокий, гибкий стан
клонился к земле, с губ не сходило выражение скорби. Но Василек был сильный,
стойкий и, хоть он побледнел и щеки у него запали, по-прежнему работал на
барщине и дома, а когда бывал возле любимой, подавлял щемящее чувство голода и
улыбался ей. А Ганка все слабела. Не раз, когда шла она по деревне, в глазах у
нее темнело, она шаталась, и боль, словно железным обручем, сдавливала ее
грудь.
Вот тебе мужицкие надежды и мечты! Два человека любят друг друга,
стремятся к счастью, ждут его, — а тут приходит голод, душит и убивает...
Той весной пан и пани были очень озабочены. В апреле предстояло пышное
торжество — годовщина их свадьбы. В доме уже убрали залы, из далеких стран прислали
для пани чудесное платье. В саду расцвели душистые нарциссы, фиалки устилали
газоны. Пан, в ожидании торжества, читал, пани играла, и ни книжки, ни звуки
музыки не говорили им о беде, постигшей их ближних, о страданиях Василька и
Ганки, об их увядающих лицах и гибнущих надеждах.
Вот два мира!
Теплый апрель одел землю зеленью, пел жаворонок, и давно уже цвели
подснежники; но в тот несчастливый, нищий год никто в деревнях не слушал щебета
весенней птицы, ни одна девушка не украшала волос цветами.
В один из апрельских вечеров Ганка сидела на пороге хаты.
Луч заходящего солнца золотил ее волосы; она опустила голову на
исхудалые руки; на побледневшем, истощенном ее лице появилось выражение печали
и гнетущего страдания. Родители были на барщине; братишка забился вместе с
кошкой под лавку; сестренка стонала, скорчившись на печке; самый младший
ребенок, распухший, спал в колыбели сном, близким к смерти.
Долго сидела Ганка, погруженная в свои мысли. Солнце уже клонилось к
закату, когда из-за забора вышел Василек, медленно приблизился к ней и молча
сел рядом.
Девушка обратила к милому взор, застланный слезой, Василек ладонью
подпер подбородок, и так сидели они некоторое время, безмолвно глядя друг на
друга.
— Василек, — вдруг, словно что-то вспомнив, заговорила Ганка, — ты ел
сегодня болтушку?
Парень махнул рукой.
— Какая там болтушка! — ответил он хриплым голосом. — Лебеду едим и
крапиву, потому что эконом нам рожь не отпускает, с тех пор как рассердился на
меня.
Ганка быстро встала и ушла в хату. Это было во вторник, в хате
приготовили болтушку из господской ржи; Ганка не ела ее, она весь день ничего
не ела и свою долю оставила для Василька. Она знала, что он не получает в
усадьбе рожь и придет к ней голодный. Минуту спустя девушка вышла из хаты и
подала милому деревянную ложку и котелок с едой.
Василек поспешно схватил котелок и накинулся на это незатейливое
кушанье. Когда он ел, глаза у него блестели, на исхудалых щеках появился
румянец; он забыл обо всем на свете, даже о Ганке, только все ел, пока не
опорожнил котелок. Нет ничего удивительного в том, что он так жадно пожирал
болтушку из господской ржи, — ведь уже две недели он питался только вареной
травой.
Ганка смотрела на него со смешанным чувством страдания и радости; голод
точил ее грудь, но она отдала свою долю любимому.
Она взяла из рук Василька пустой котелок и отнесла в хату; потом
вернулась, села рядом с парнем на пороге, обвила руками его шею и припала
головой к плечу. А он одной рукой обнял ее и прижал к себе, другой гладил
светлые, расплетенные косы.
— Сокол ты мой ясный, Василек! — прошептала девушка.
— Голубка моя, душенька! — тихо ответил он.
И умолкли, сидели безмолвно; у них еще хватало сил, чтобы любить друг
друга, но голод стискивал им горло и мешал говорить.
Солнце зашло, люди, возвращавшиеся с барщины, показались на
противоположном конце деревни. Ганка поднялась, встал и Василек. Долго еще не
выпускал он ее из объятий, по-прежнему молча глядели они друг на друга, наконец
обменялись долгим, горячим поцелуем... и парень с опущенной головой ушел в
деревню, а Ганка, поглядев ему вслед, вошла в хату и, совсем обессиленная,
упала на лавку.
В этот же самый час в усадьбе пап и пани прогуливались по широкой чистой
дорожке между зелеными газонами и грядками цветущих нарциссов.
Пани, опираясь на руку мужа, говорила ему о приближавшемся торжестве и о
своем чудесном платье, делилась мечтами о будущем путешествии и зимних
развлечениях. Пан держал в своей ладони маленькую ручку жены, слушал ее веселую
болтовню, а потом рассказывал обо всем, что вычитал в книжках и что когда-то
видел, странствуя по свету. Солнце зашло, прислуга доложила, что чай подан, пан
и пани вошли в дом, пили и ели у открытого окна, по-прежнему оживленно беседуя.
Потом, поздно вечером, слышны были звуки фортепьяно — это пани играла, а пан,
сидя рядом с ней, слушал музыку и время от времени целовал белую ручку и алые
губки жены.
Вот две любви, две пары, два мира!..
Назавтра после этого апрельского вечера родители Ганки с рассветом ушли
на барщину. Девушка, пошатываясь, встала, развела в печке огонь и пошла
собирать лебеду.
Она вернулась с пучком зелени и принялась варить обед: поставила котелок
с водой на огонь и кинула туда траву. Под лавкой мяукал кот и пищал ребенок; на
лавке сидела, скрючившись, в оцепенении восьмилетняя девочка; в колыбели спал
распухший младенец.
Близился полдень. Ганка вышла из хаты, поглядела на солнце, спросила у
проходившего мимо соседа, в каком месте работают родители, и вернулась домой.
Накормила лебедой детей, поела сама, приглушила на мгновение голод, но вареная трава
не придала ей сил. Потом налила жидкое зелье в два котелка, повязала голову
платочком и ушла. С трудом, пошатываясь, брела она через деревню. У хаты
Василька девушка остановилась, поздоровалась с его матерью, собиравшей во дворе
щепки, и пошла дальше. Василька она не видела, потому что он был на барщине.
Ясный, почти жаркий день заливал землю потоками солнечных лучей, аисты
клекотали на крышах. Девушка несла котелки с едой. Все так же неуверенно
ступая, она миновала деревню, перешла поле, потом луг. Наконец очутилась у
речки. По другую ее сторону, на господском поле, работали крестьяне; среди них
Ганка разглядела и своих родителей. Через речку были перекинуты мостки,
достаточно широкие для того, чтобы по ним пройти, но неустойчивые и
прогибающиеся при каждом шаге. Ганка вошла на мостки и зашаталась; она быстро
отступила назад и села в траву, потому что ноги у нее дрожали. Харвар увидел
дочку и окликнул ее.
— Подойдите сюда сами, возьмите еду. Мне не пройти по мосткам, я упаду в
воду, — слабым голосом позвала девушка.
Харвар двинулся было к дочке, но эконом крикнул:
— Ты что там с девкой болтаешь? Работать надо!
А на Ганку заорал:
— Неси сейчас же сюда сама! Я вот тебе покажу! Не может пройти по
мосткам! Велика барыня, полюбуйтесь-ка на нее!..
И погрозил ей нагайкой.
Ганка с трудом встала, подняла котелки и взошла на мостки. На этот раз,
сделав первый шаг, она не зашаталась, но на третьем голова у нее начала кружиться.
Девушка двинулась дальше... ноги задрожали и в глазах потемнело. Она крикнула и
сделала еще один шаг. Эконом заорал с другого берега:
— Да быстрей же, ну! Глядите, какая неженка! Идет, словно ноги у нее
чужие.
Он не подумал о том, что голод лишил бедняжку сил.
От криков эконома Ганка задрожала сильнее; она посмотрела вниз, выронила
из рук котелки, хотела идти дальше, зашаталась, еще раз крикнула и... упала в
реку.
На берегу раздались два отчаянных вопля: отца и матери. Василька там не
было, он работал на другом краю господского поля.
Вечером того дня в Харваровой хате горел яркий огонь. Красное пламя
дрожащим отблеском освещало серую, печальную комнату; у огня, на лавке, лежала
Ганка — ее вытащили из воды уже мертвой, ее длинные волосы были распущены, руки
сложены на груди, простую рубашку подвязали красной лентой, которую ей когда-то
подарил милый. Возле нее, на полу сидела мать. У нее не хватало сил, чтобы по
деревенскому обычаю громко голосить, и она тихо всхлипывала, вытирая слезы
передником. В другом углу хаты на лавке сидел Харвар; руки у него были сложены
на коленях, голова опущена на грудь; слипшиеся, спутанные волосы сбились на
лбу. Ни одного горестного слова не сорвалось с его губ, ни одна слезинка не
скатилась с его устремленных вниз глаз, но все самое страшное, что таит в себе
бессильное отчаяние, выражал скорбный, безмолвный облик крестьянина.
Василька не было. Когда разнеслась весть о гибели Ганки, он прибежал в
деревушку бледный, с блуждающим взглядом и, взглянув на труп девушки, схватился
за голову и убежал. Напрасно его искали: прошел целый день, а Василька нигде не
было.
Мрачная тишина царила в хате, лишь время от времени нарушаемая
потрескиванием огня, рыданием женщины да тяжелым вздохом Харвара. В углу
комнаты в колыбели умирал распухший от голода ребенок.
В тот вечер в господской усадьбе было много гостей. Пан узнал от эконома,
что утонула Ганка, и рассказывал о печальном происшествии обществу,
собравшемуся у заставленного яствами, ярко освещенного стола.
— Жаль девушку, если она была красивая, — сказал какой-то присяжный
остряк, по обязанности развлекающий присутствующих.
— Она была красивая, — ответил пан, — и, кажется, невеста.
— Сюжет для романа, — вздохнула сентиментальная дама, во всем на свете
желавшая усмотреть сюжет для романа.
— Роман у мужиков! — возмущенно воскликнул тучный, с пышными усами,
помещик. — Что вы говорите? Да разве они умеют любить?
— Все же жалко девушку, если она была красивая, — повторил остряк.
— Господа, поговорим о другом, — с гримасой на прекрасном лице
воскликнула пани. — Утонувшая девушка — это печальная тема для беседы, это плохо
действует на нервы.
— Поговорим о другом, моя богиня! — воскликнул пан, и потекла веселая,
оживленная беседа.
О бедной мертвой Ганке, которая лежала с посиневшим лицом и распущенными
волосами в Харваровой хате, о ее родителях и ее возлюбленном в господских залах
не думали. Несколько дней спустя мужики, возвращавшиеся из местечка, привезли в
деревушку, где умерла Ганка, найденный на большой дороге, под крестом, труп
распухшего от голода человека. Это был Василек.
Вот вам и мужицкая любовь, надежды и мечты! Двое людей в деревушке
полюбили друг друга, они строили планы о счастливом будущем, — а тут пришел
голод. Две могилы на сельском кладбище — вот и все, что осталось от этих двух
существ, полных здоровья, сил и надежд.
А через месяц опустела хата Харвара. Двое младших детей умерли, старшую
девочку взяли пастушкой в усадьбу, а Харвар с женой, изможденные и поседевшие,
пошли собирать милостыню на больших дорогах. Когда они покидали деревню и
проходили мимо кладбища, сосны шумели над двумя свежими могилами, стряхивая
капли недавнего дождя. Харвар и его жена поглядели на кладбище и безотчетно
перекрестились, но не подошли к могилам дочки и ее возлюбленного и не было слез
в их ввалившихся глазах с распухшими веками. Голод выстудил чувство в их
сердцах и высушил слезы.
Они ушли и пропали бесследно.
Вскоре опустела и господская усадьба. Пан и пани отправились в далекое
путешествие.
Прошла осень, потом зима. Весной пан и пани снова вернулись в свой
светлый деревенский дом. Зиму они весело провели в большом городе, а
возвратившись, снова читали, играли, развлекали гостей и, как прежде,
прогуливались в благоухающем саду.
А прелестное личико Ганки и честное сердце ее возлюбленного точили под
землей черви.
* * *
Я окончила мою историю, прекрасные господа и дамы! Простите, если наскучила вам незатейливым рассказом. Но, видите ли, словами не всегда удается передать горячее чувство, и трудно пером выразить живую мысль. Однако сердце сжимается, при воспоминании о муках, которые выпадают на долю наших бедных братьев, и наряду с мрачными картинами нужды и несчастий в воображении возникают сияющие радостью лица баловней судьбы. И когда такие картины заполнили мои мысли, мне захотелось обратиться к вам с искренним, пусть и убогим словом, и я рассказала когда-то услышанную короткую историю Ганки и Василька.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





