ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна



рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Соколова Наталья 1961
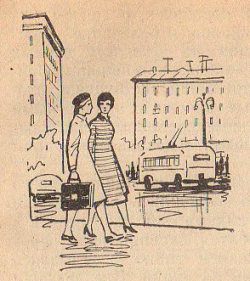
Дождь то переставал, то моросил опять. Длинные, как бы размытые отсветы от витрин, от светофоров ложились на черную, словно отлакированную мостовую и проплывали по мокрым лоснящимся спинам едущих машин, понизу забрызганных грязью.
Был тот зыбкий час, когда уже горят неоновые вывески и рекламы с их пронзительными оранжево-малиново-зелеными сочетаниями и спокойно светятся матово-желтые шары переходов, но не зажглись еще цепочки уличных фонарей. От этих первых светящихся точек, от огней в домах на улице казалось темнее, четкие очертания предметов терялись, все выглядело немного призрачным в этих сизо-голубоватых сумерках — и плоский крашеный комодик чистильщика сапог, уже запертый после дневных трудов, в узкие зеркала которого на ходу близоруко смотрелись женщины, поправляя шляпки; и лоток для продажи фруктов, одинокий, с пустыми стеклянными витринками, закончивший на сегодня свою дневную службу, сиротливо отставленный к стене; и другой лоток, еще полный жизни, окруженный покупателями, с яркой россыпью лимонов и непрочным нагромождением банок, пачек печенья, круглых железных коробочек, с хаосом бумажных ящиков позади продавца; и белеющие в сумраке колясочки мороженщиц на больших черных колесах, с выставленными напоказ кирпичиками-брикетами; и освещенные изнутри одинокие будочки телефонов-автоматов; и табачные киоски с квадратными окошками, сплошь залепленные коробками: неизбежным «Казбеком», благородными «Посольскими», примелькавшейся «Тройкой»...
На тротуар высылали девушки из библиотечного техникума, где только что кончились занятия. По двое, по трое и целыми стайками они разбегались в разные стороны, смеясь и болтая, перепрыгивая через лужи, характерным движением гибко оглядываясь через плечо — не забрызганы ли чулки. Две девушки так неожиданно перебежали через улицу, что «Победа» круто остановилась, сотрясаясь всем телом и недовольно фырча; сердитый шофер выглянул из окна, показал кулак, но, увидев милый испуг одной и задорный прищур другой, с челочкой, более хорошенькой, смягчился, помахал им вслед рукой в кожаной перчатке.
Женя, признаться, была немного удивлена, что ее удостоила своим обществом Тамара, которая считалась среди девушек признанной королевой мод. Они не дружили, к тому же Тамара обычно ходила другой дорогой. Но сегодня она шла рядом с Женей и была с ней подчеркнуто мила.
— А если тебе поднять косы? И заколоть — здесь и здесь. Будет пикантно.
— Я привыкла по-простому, по-школьному, — засмеялась Женя, перекидывая косу через плечо. — Мне вообще не идут разные прикрасы, не то, что другим. Уж очень я обыкновенная. Брат, тот зовет меня «одноносенькая, пятипалая». И говорит всем: «Других особых примет у нашей Жени даже угрозыск бы не нашел».
— Брат у тебя интересный, — Тамара ладошкой потрогала челку, — такой жгучий...
— Похож на Сурикова, правда?
— На киноактера Кузнецова, — томно сказала Тамара, — Суриков, я не знаю такого артиста... Это из эстрадных?
Женя помотала головой.
— Это художник, мамин самый любимый. Есть его портрет, он такой растрепанный, брови темные, ну, совсем наш Костя.
Они вышли на широкий разлив Садовой, которая в этом месте круто шла под уклон. Медленно, как бы нагнув голову, с усилием, поднимался в гору троллейбус с двумя зелеными огоньками во лбу, а навстречу ему, слегка притормаживая, другая машина, мягко обутая, с ветерком спускалась в низинку. Ее подвижные рога, чем-то (может быть, свободно висящими петлями) напоминающие лыжные палки, прогибаясь, колебали и оттягивали провода.
Легковые машины, разогнавшись, маленьким стадом замирали в конце спуска, у светофора, дрожа от нетерпения, с сильно бьющимися сердцами, их задние огоньки, красные светящиеся точки накапливались, сближались, перепутывались на малом пространстве в тесное созвездие, пока светофор не говорил свое решающее слово: «Путь свободен», — тогда красные точки, разъединяясь, вытягиваясь в линию, неторопливо ползли вверх по противоположному склону этого глубокого городского оврага, а мимо них проплывали белые огни одиноких встречных машин. Это была картина вечернего города, с присущими ей красками и оттенками, такая привычная и знакомая, что девушки почти не замечали ее, занятые разговором.
— А вот этот приятель брата, что был с вами тогда в театре... — Тамара как-то вся подобралась. — Кто он? Напоминает Столярова в положительной роли. Глаза прищуренные, нос короткий и ямочки на щеках.
— Никита? — Женя фыркнула, что должно было выражать ее пренебрежительное отношение. — Он с Костей на одном курсе. — Она вернулась к вопросу о своей наружности. — Никита, тот говорит, что я конопатенькая. А что это, собственно говоря, значит? Я смотрела у Кости в технической энциклопедии, конопатить — значит затыкать дыры, щели чем-нибудь. Паклей, пенькой. Ну при чем тут я? Лишь бы дразнить...
Тамара вела свою линию:
— Он часто у вас бывает?
— Часто. Папа его очень любит и вечно ставит Косте в пример. Костя говорит, что он бы возненавидел Никиту, не будь Никита самый лучший в мире друг... и такой веселый человек, что ненавидеть его никто не может, — простодушно болтала Женя, помахивая на ходу портфелем. — Веселый человек! Он меня положительно изводит, зовет по-всякому. На катке обязательно вываляет в сугробе. Нет, не сложились у нас отношения, — объявила она решительно. И тут же, желая быть справедливой, дополнила: — Он хорошо песенки насвистывает. Чертит лучше Кости, работоспособный. Папа говорит, что это оттого, что он на заводе поработал, хлебнул жизни. — Женя воспроизвела назидательный тон отца. — Сам он из Сибири, живет в общежитии, вот ему и нравится у нас в семье...
— Не имеет своей жилплощади в Москве? — быстро откликнулась Тамара. И задумчиво досказала: — Что ж, теперь все равно после окончания усылают.
— Мама всегда старается, чтобы он у нас пообедал, но он такой щепетильный, — сказала Женя уже серьезнее. — И представь себе, лето он совсем не отдыхает, работает на строительстве, чтобы накопить денег себе и сестре на зиму. Они сироты, у них никого нет. Мне кажется, я бы так не могла — после всей этой зубрежки не купаться, не кататься на велосипеде, умрешь! — Напоследок Женя не могла удержаться от мелкой колкости: — А нос у него не короткий, но курносый. Картошкой нос.
Тамара спросила о возрасте сестры, поджала губы, узнав, что она только в девятом классе. И вдруг, обаятельно улыбаясь, обняла Женю за талию, прижалась к ней кошачьим движением:
— Женчик, душечка... сделай это для меня. Ну, ты понимаешь?
Женя понимала не больше, чем фонарный столб, мимо которого они проходили.
— Познакомь, сведи меня с ним. Именины устрой, крестины, что хочешь. Только бы он пошел меня провожать, а дальше я все сама. Ты только познакомь, тебе же ничего не стоит... — Она взялась руками за щеки. — Нравится, нравится мне, хоть убейте. С того самого вечера ни на кого смотреть не хочу. Этот рот большой, губешки нахальные, все в улыбке... Ах, ты еще девочка, что с тобой говорить?
Женя отодвинулась от нее, изумленная и неприятно пораженная.
— Никита? Ты шутишь... Да он тебе совсем не подходит. Он не танцует, и рот у него до ушей, и читает одни серьезные книги, и пиджак — чуть что, снимает и вешает на спинку стула. — Она засмеялась. — А стул переворачивается, бах! Нет, вот наш Костя, это другое дело. Он у нас выглядит как лорд.
Тамара повернула к ней подурневшее тревожное лицо с отсыревшей и обвисшей челкой.
— У него есть девушки? Хотя ты, конечно, не знаешь.
— У Кости? Никого у него нет. Если его расшевелить...
— У Никиты, — сказала Тамара тихо.
— Кому он такой нужен? — искренне удивилась Женя. — Дурашливый, как мальчишка. Спрашивает: «Сколько будет три, три и три?» Оказывается, дырка. И это — студент!
От «Форума» шел плотный людской поток — народ выходил после очередного сеанса. Девушек затерло у гомеопатической аптеки. Женя, задрав голову и подхватив слетевший беретик, старалась высмотреть, какая идет картина. Тамара взяла Женю за плечи, повернула лицом к себе.
— Женя... скажи честненько... может быть, ты сама... может быть, ты его для себя...
В этот момент по всей Садовой разом зажглись фонари, лицо Жени, прислонившейся спиной к решетке, облил яркий, неожиданно сильный свет, прямо бивший в глаза, она зажмурилась, точно ослепленная вспышкой магния, и так стояла с минуту, в одной руке беретик, в другой — покачивающийся портфель. Потом открыла глаза, увидела преображенную светом Садовую, приблизившиеся, выступившие из тени стены домов и уходящие в оба конца ровные линии огней — в одну сторону сбегающие к Самотеке, в другую поднимающиеся к Орликову переулку, к Министерству сельского хозяйства, и туда дальше, к станции метро.
— Ну, это уж... — Женя, с разгоревшимися щеками, со сдвинутыми бровями, сердитая и одновременно смущенная, не находила слов для ответа. — Это уж мое дело, кого я для себя... Нету, нету у нас лишнего билетика, — бросила она через плечо, не меняя тона (они как раз проходили мимо кинотеатра). — Надо меньше думать о мальчиках и больше об отраслевой библиографии, вот что.
— А я тебя зато сведу в один дом, — вкрадчиво сказала Тамара, — там бывают молодые люди. Знаешь, из дипломатического института...
— Ну, мне направо, — Женя резко оборвала разговор. Они стояли на углу Сретенки, напротив универмага, в густой толпе, которая всегда образуется в часы «пик» на этом перекрестке. — Наши идут в театр, ты извини, мне нужно быть пораньше дома.
Она отошла уже на несколько шагов, потом вернулась:
— Вот будет какой-нибудь вечер, приведу в техникум Костю и с ним Никиту. А там смотри сама.
Дождь моросил. Мокро блестел плащ милиционера-регулировщика, мороженщицы накрывали свои коляски клеенчатыми фартуками. Отходя от газетного киоска, мужчины прятали «Вечерку» за пазуху, чтобы она не подмокла. Женя шла, поеживаясь после неприятного разговора, подняв воротник своего простенького прямого пальто, похожего на мальчиковое.
На сверхдлинный Женин звонок выбежали соседка Антонина Васильевна, отец с намыленной щекой и Костя с утюгом в руках.
— Идет! — Когда вошла Женя, на лицах выразилось общее разочарование. — Нет, это Женя...
— Мамы еще нет, конечно?
Женя с удовольствием стянула с головы мокрый беретик, обрадовалась милым знакомым запахам, привычному ощущению домашнего тепла, уюта и мельком пожалела Тамару — у Тамары рано умерла мать, отец, агент по снабжению, приходил «под мухой» и заваливался в сапогах на кровать, на подоконнике всегда лежал слой пыли, по комнате были раскиданы широкие юбки Тамары и ее сестры, зашлепанные грязью, и кофточки-безрукавки с полинялыми подмышками.
— Мама звонила, — сказала Жене рассудительная Антонина Васильевна (должность контролера ОТК на автозаводе приучила ее к аккуратности). — Обещалась прийти через двадцать минут. Прошло так с час, не более того, — Антонина Васильевна не хотела сказать ничего смешного, она просто освещала положение.
Женя бросила портфель в дальний угол и перехватила у Кости утюг, который тот неловко держал в отставленной руке, морщась и обжигаясь.
— А где утюжка? Это ведь не утюжка, это мамин носовой платок. Смотри, ты сжег его, тебе будет от мамы. — Она вздохнула и сказала тоном доброго товарища, который умеет ради других идти на маленькие жертвы: — Ну, давай, что там нужно гладить?
Отец скрылся за дверью ванной комнаты, и слышно было, как он глухо напевает что-то. По звуку можно было догадаться, что именно отец делал — брил ли он выпяченный вперед подбородок, или скоблил щеку с подставленным для твердости языком, или, наконец, снимал последние волосики на вытянутой шее.
Костя, старший брат Жени, студент, красивый круглолицый парень со сросшимися темными бровями, со спадающими на лоб прядями так называемых непокорных волос (на самом деле он эту непокорность всячески культивировал и никому, даже матери, не позволял приглаживать свои волосы), находился, в полном соответствии со своим характером, в состоянии мрачного отчаяния. Мамы нет, брюки парадные измялись, пока висели в шкафу, галстук в точечках куда-то пропал, а галстук в галочках не подходит к салатной рубашке, и потом все равно они опоздают, а он лично ни за что не станет смотреть спектакль со второй картины, это полное идиотство и просто неприлично, наконец. Уж лучше бы они с Никитой пошли на лекцию в Политехничку, как собирались.
У Кости был нелегкий характер, он всегда готовился к худшему, предвидел все самое плохое. Недаром в младших классах его звали «Муж ведьмы» (по- видимому, ребята не знали, как произвести мужской род от слова «ведьма»), а когда он стал постарше, то к нему прицепилось ехидное прозвище «Будет-дождь». Если ехали за город всем классом — значит, будет дождь! Если шли в кино — не хватит билетов! Если пришло время держать экзамены — все провалимся, не стоит и ходить!
В этом году Женя поступила в техникум, и новые Женины подруги проявляли к Косте повышенный интерес, забегали в те часы, когда он мог быть дома, говорили в этих случаях с Женей громкими и какими-то ненатуральными голосами, много и оживленно смеялись. Но Костя вел себя сурово — насупив брови, читал журнал, или накалывал лист ватмана на доску и ожесточенно чертил, или решал шахматную задачу. Даже на каток Костя ходил с сестрой и с Никитой и там, ни на кого не обращая внимания, без шапки, с растрепанной шевелюрой, красиво пересыпанной снежинками, одиноко гонял по большому кругу, пока Женя с Никитой играли в салочки и тыкали друг друга носами в сугробы, окружающие ледяное поле. Никита утверждал, что Костя, как женоненавистник, сформировался в ту далекую минуту, когда он вышел гулять с лопаточкой в руках и услышал со стороны Казанского вокзала протяжный гудок маневрового паровоза (марка неизвестна) — «с той поры, сгорев душою, он на женщин не смотрел».
Женя пристроила на кухне гладильную доску и стала гладить брюки через мокрую тряпку. Тряпка шипела и окутывала Женю влажным паром, а Костя мешал и произносил негодующие монологи.
— Бедлам! Хорошо Никите в общежитии. Где он положил вещь, там она и лежит. А у нас... Ну где, скажи на милость, сапожная щетка? Всегда была в этой плетеной корзиночке) а теперь там какие-то бархатные тряпки.
— Поищи под тряпками.
— Искал, ты думаешь, я совсем шляпа? Нету. Мама делала уборку, а после очередной уборки, это же известно, нет на месте ни одного моего чертежа, ни одной нужной книги... Честное слово, я понимаю, почему этот Диоген ушел жить в бочку! Наверное, у него были мать и сестренка, одержимые идеей генеральной уборки.
Женя, раскрасневшаяся от глажки, поставила утюг на газовую горелку и довольно скептически разглядывала брата, накручивая на палец кончик косы.
— А ты знаешь, что на самом деле Диоген жил ни в какой не в бочке, а в пифосе? Да, да! Это такой большой глиняный горшок, Никита мне рассказывал. В самом деле, какие бочки в Греции, когда там и лесов-то нет? А вот написал кто-то первый — бочка, и пошло гулять... Нас подавляет общепринятое, а надо иметь свежий взгляд на вещи, — нравоучительно и немного свысока сказала Женя, явно повторяя чужие мысли.
— Никита, он чертовски начитанный парень, — сказал Костя с оттенком восхищения, — а вот что с тобой часами разговаривает, так это темно и непонятно. Ты и твои подруги...
— А что подруги? — Женя с независимым видом заложила руки за спину. — Сам небось на Тамарку во все глаза смотрел, когда встретились в театре...
— Какая это? А, такая с гривкой до бровей и вся в косую полосу? Ну, ты меня прости, но это дешевка. Никита сказал...
— Что сказал Никита? — с внезапным замиранием сердца спросила Женя, опуская руки.
Костя выбрасывал из плетеной корзиночки одну за другой бархатные тряпки.
— Нету, нету щетки, ну что ты будешь делать?
— Что сказал Никита?
— М? — Костя поднял голову. — Ах, об этой твоей... Ну, у Никиты бывают заскоки. Он оказал: «Как наша Женя выигрывает рядом с этой полосатой обезьянкой».
— Так и сказал — наша Женя?
— Или что-то в этом роде. А что? — Костя соизволил мрачно усмехнуться. — Никита так прирос к нашему дому, что, кажется, я сам начинаю путать, чья ты сестра, моя или его. — Стоя среди раскиданных по кафельному полу бархатных тряпок, он патетически воскликнул: — Нет, мама становится невозможной!
Отец, свежевыбритый, вкусно пахнущий, заглянул на кухню, поцеловал Женю в щеку, положил руку на плечо сына, отчего тот слегка присел.
— По-моему, я объяснял тебе еще в младенческом возрасте, чтобы ты, говоря о маме, обязательно употреблял прилагательное «дорогая». М? — Костя что-то буркнул, но неразборчиво. — Можешь свой дурной характер проявлять по моему адресу, я как-нибудь переживу. Но за маму, смотри, щенок, оторву голову!
Он убрал руку, и Костя сразу обрел дар речи.
— По-твоему, я не люблю маму? Бред. Но мне вообще недоступно то рыцарски-почтительное отношение к женщине, которым ты отличаешься.
— Гм. Жаль, что недоступно. — Отец сунул руку в корзиночку, точным движением извлек сапожную щетку, ту самую, которую так безуспешно искал Костя. — Ну, я пойду на лестницу чистить ботинки. — Уже в дверях, полуобернувшись, он сказал Косте: — А тряпки все положи на место. — И ушел.
Костя присвистнул и с трагическим видом взъерошил свои и без того взъерошенные волосы. Но Женя сурово на него посмотрела, и он принялся безропотно собирать раскиданное тряпье.
— Очень хорошая постановка «Коварство и любовь», — сказала Антонина Васильевна, заходя на кухню, — будете довольны. Я, Женечка, предлагала Косте заняться насчет брюк. Хотела им подсобить, но вы же знаете, какие они, когда взовьются. — Да, это Женя знала. — Не видели, часом, где мой Павлик?
— Павлик в уборной, я видел, — сказал Костя сурово, страдая при мысли, что складку Женя может загладить неправильно.
Павлик, сын соседки, был милый, симпатичный, умный мальчик пионерского возраста. Но было одно темное пятно, которое омрачало эту юную жизнь. Дело в том, что Павлика постоянно грызло ужасное сомнение — как, он сядет и сделает уроки, заданные на завтра, и ботанику, и задачки, и упражнения по русскому, а потом вдруг окажется, что их можно было не делать, потому что случилось необыкновенное, невиданное, чрезвычайное происшествие. Какое именно? Тут фантазия Павлика не знала пределов и ограничений. Мало ли что может случиться? Жизнь изобилует неожиданностями. Может быть объявлен новый праздник, может в коридорах школы завестись грибок или микроб, требующий дезинфекции. Могут ударить в самое неподходящее время года морозы, может прийти из Западной Европы какой-нибудь буран или тайфун, который поднимает в воздух людей, по весу не достигающих... Ну, словом, мальчиков до седьмого класса. Могут заболеть сразу все учительницы, уроки которых назначены на этот день, а также все те учительницы, которые сумели бы заменить этих учительниц.
Павлик стал жертвой идеи, мучеником принципа. Если другие, обычные дети, не озаренные идеей, быстро, частенько кое-как делали уроки и потом гуляли, играли, то Павлик весь день находился в непрерывном борении с окружающими и с самим собой, чтобы не начинать делать уроки. Только когда за окном было темным-темно и становилось ясно, что сегодня не будет ни эпидемии, ни тайфуна, ни землетрясения, полусонный, истомленный бездельем Павлик открывал сумку и раскладывал учебники. Бывали дни, когда казалось, что придется сесть к столу засветло, что иного выхода нет и что Павлик уже изнемог в борьбе; но ни разу он не спустил флаг, не сдал позиций. Возможность отсидеться в уборной с книжкой или журналом была немаловажным козырем в этой увлекательной игре.
— В уборной? Вот оно что, — Антонина Васильевна отправилась к месту происшествия.
Она в таких случаях ругала сына свистящим шепотом и дергала помаленьку дверь. Но крючок держал крепко, а повышать голос совестливая Антонина Васильевна не хотела из уважения к соседям — Павлик на это и рассчитывал. Он смирненько отвечал: «Сейчас, мама», — и держался до последнего.
На этот раз Антонине Васильевне удалось выкурить сына сравнительно быстро, и он прошествовал под ее конвоем в комнату, явно готовый занять следующую линию оборонительных укреплений.
— Ну вот, осталось только отвороты погладить, и конец! — сказала Женя, мокрым пальцем пробуя утюг. В этот момент мигнул и погас свет во всей квартире. Костя, выбираясь из кухни в коридор, уронил стул и выругался. Антонина Васильевна, махнув на сына рукой, хлопотливо искала огарочек свечи: «Здесь где-то был, вчера еще видела». Неслышно подошел отец, и в темноте прозвучал его серьезный глуховатый голос, который так любила Женя: «Пробки. Ладно, сейчас уладим».
Так же спокойно, так же трезво и немного суховато разговаривал он, наверное, и в тот далекий страшный день сорок первого года, который Женя не могла помнить и все-таки как будто помнила (возможно, по рассказам старших), — день, когда мама с двухлетней дочкой на руках и пятилетним сыном ушла по пыльному, заполненному беженцами и простреливаемому немцами шляху туда, к своим, в Россию, ушла в одном сарафане и тапочках на босу ногу, а отец, бросив последний взгляд на ее пропыленные, уже разбитые в кровь ноги и не оглядываясь больше, вернулся в город, чтобы взорвать завод, который он сам строил.
Чиркнула спичка, вспыхнул и заколебался маленький огонек свечи. Костя принес длинную лестницу, уронил ее, запрыгал на одной ноге, потом все-таки приставил лестницу к стене, прищемил руку Павлику, который немного покричал (впрочем, не очень громко, чтобы его не отправили в комнату).
— Поедет, — сказал отец.
— Глупости! — Костя встал на лестницу, ножки поехали, отец едва успел ее подхватить.
Лестницу пришлось держать. Костя осмотрел пробки, сообщил, что перегорел волосок, стали искать новый волосок, не нашли. Отец предложил расщепить старый провод, стали искать старый провод, Антонина Васильевна рассердилась на Павлика и отправила его в комнату, свеча потухла, стали искать спички, Павлик вышел из комнаты и наступил на кошку, отец нашел спички, свечу зажгли, старый провод расщепили.
— Ну, в чем дело? — спрашивал отец снизу.
— Понимаешь... э… не достает, — невнятно отвечал Костя сверху. — Я все сделал, но тут...
— Ты же в прошлый раз чинил без меня.
— Понимаешь... тогда Никита лазил. А я снизу...
— Руководил? Понятно, — отец стал снимать пиджак. — Слезай.
Костя слез как-то боком.
— В конце концов, железнодорожник не обязан...
— Обязан, — отрезал отец. — Держи пиджак. Обязан и рыцарственно относиться к женщине, и уметь пробки чинить, и не ронять лестницу на ноги, свои и чужие...
Загорелся свет. Кошка, сидя на шкафу, зелеными отсвечивающими глазами смотрела на людей, удивляясь, что это они сегодня так суетятся и кричат.
— Вот из Никиты будет инженер, — сказал отец, слезая, — а из тебя, боюсь, писарчук. Не сумели мы как-то тебя... Убери лестницу.
— И, господи, Аркадий Михайлович, жизнь выучит, будут люди как люди, — успокоила его благожелательная Антонина Васильевна. — Инженерами не родятся, инженеров производство выпекает. Вот взять хотя бы у нас на главном конвейере... — И, увидев сына, который стаскивал кошку за задние лапы со шкафа, с неожиданной ловкостью ухватила его за воротник. — Проклятый дух, усажу я тебя сегодня за стол или нет?
Раздался звонок, и на этот раз вошла мама, обвешанная пакетами. У мамы было круглое красивое лицо с такими же, как у Кости, сросшимися бровями, только полное, и очень громкий голос.
— Ну вот! Двенадцать вызовов... Правда, я быстро справилась? Осторожнее, Женя, там прибор для измерения давления. Интересный очень случай облитерируюшего эндоартериита. И потом я купила рыбу...
— Какую еще рыбу? — воскликнул Костя трагически. Он был в рубашке с галстуком и в пижамных штанах.
— Сига, — и мама с милой улыбкой пригладила ему волосы назад, чего Костя терпеть не мог, — купила мороженого сига очень удачно, это нам на завтра будет, как раз стояла моя больная, воспаление лоханок, она и говорит: «Наталья Юльевна, становитесь впереди меня», очень приятный культурный человек, только личная жизнь не сложилась, а продавщица тоже моя больная, — мама прочно уселась на стул в передней, — я говорю: «Очередь будет возражать», а она мне: «Кто возражать, когда тут одни ваши больные и вы всегда безотказно на пятый этаж без лифта, а вот Родионова выдает бюллетени за деньги». А я говорю: «Это сплетни»... Антонина Васильевна, — зычно закричала мама, легко, без всякого напряжения усиливая голос, — на углу сиг есть, вам не нужно? А почему, собственно, ты в пижаме, — обратилась она к Косте, — разве еще не пора? И где отец?
Отец стоял за ее стулом и посмеивался. Потом заговорил с тем ощущением собственного превосходства, которого не могут избежать в этих случаях даже самые умные мужчины.
— Простая арифметика, друг мой. Начало спектакля в восемь тридцать. Нам добираться минут сорок. Ты появилась... — он поднес к ее лицу часы и постучал по стеклу. — Рассуди сама, откуда быть аккуратности у детей, если их родители...
— Ах, пустяки, — сказала Наталья Юльевна с легким вздохом и поцеловала мужа в шею. — Я во всяком случае буду готова раньше вас. Не огорчайся, Костик, но этот галстук совсем не из той оперы, — она ушла переодеваться.
Костя влез в отглаженные штаны и старался не сгибаться, потому что боялся, что они недостаточно остыли. Антонина Васильевна осмотрела сига и в основном одобрила. Павлик, пользуясь суматохой, звонил товарищам и спрашивал, легко ли было решать задачу и какие при этом имели место переживания — старый и проверенный способ оттяжки, чтобы самому за эту задачу не приниматься. Когда его окончательно изгнали из коридора, он стал чинить подряд все карандаши и время от времени с очень примерным видом дефилировал в сторону кухни, неся перед собой на картоночке горку цветных очистков.
Наталья Юльевна стояла перед шкафом в длинной черной шелковой комбинации, отражаясь в зеркале розовыми плечами, и расчесывала волосы, задрав их кверху, как конский хвост. Отец сидел на кровати и чинил замочек на бусах, который стал плохо держать.
— Это просто неудобно, что мы их никогда не зовем. Не знаю, как я встречусь с Ириной Петровной сегодня в театре... Уложить косами или жгутом?
— Косами лучше.
— Твой старый сослуживец, вы в одной системе пятнадцать лет.
— А почему я должен принимать человека, который мне не нужен, неинтересен, которого я просто не уважаю? Бидон у нас в доме тоже служит пятнадцать лет — был и остался бидоном.
— Это не ответ. Твоя манера отшучиваться...
— Раньше я думал, что это просто безвредный дурак, но последнее время... Есть «Отчет о производстве продукции в натуральном выражении». А есть «Отчет о сверхплановом производстве фондируемой продукции», — фактически точная копия первого. Сначала им отпиши, как выполнили план, а потом на отдельной бумажке — как его перевыполнили. Что в лоб, что по лбу... Ты понимаешь? Короче говоря, ни разу я этот второй отчет не представил. И ничего, мир стоит, нигде не дал трещины, а я и посейчас жив-здоров. Так вот он вызывает Рожковского, пользуется тем, что работник молодой, и говорит...
— Твой Рожковский, положим, зубастый, весь в тебя. Посмотри, так хорошо? Пробор ровный?
— А Рожковский ему: «Мне дороги интересы дела, а что будет говорить княгиня Марья Алексевна, это меня мало волнует»... Скажи на милость, как это вы, женщины, ухитряетесь держать шпильки во рту и разговаривать? На, готовы твои бусы.
— Застегни, только осторожно, волосы. Костя идет сюда, перестань, — Наталья Юльевна отодвинулась.
Женя с утюжкой в руках стояла у кухонного окна и смотрела на темный силуэт города, на ярусы крыш, неясно рисующиеся сквозь запотелые стекла, на яркие дальние огоньки. Она любила свой восьмой этаж, легко мирилась с тем, что в определенные часы ослабевал напор воды, не зажигался газ в колонке — зато у подруг, живущих пониже, ей всегда не хватало света, не хватало горизонта, вот этого ощущения простора, широких городских далей, ощущения большой Москвы. Вид из окна менялся в зависимости от времени года, от погоды, от часа дня, и Женя хорошо знала эти изменения, следила за ними. Горбатый переулок, видный как бы с птичьего полета, был ей мил и в летний дождь, когда его заливал бурный поток, вскипая редкими крупными пузырями, а машины двигались, как амфибии, раздвигая воду; и зимним днем, когда дворники к белым, пушистым после недавнего снегопада кучам подгребали рассыпчатый, как халва, светло-шоколадный снег с изъезженных и исхоженных мест; и Первого мая, когда через переулок, разгружая магистраль, пропускали колонны демонстрантов с бумажными цветами и плакатами (к сожалению, повернутыми тылом к Жениному окну).
Жене нравилось наблюдать, как в час заката блестели окна дальних домов, похожие на кусочки слюды, как небо, нежное, розово-сизое, с удлиненными легкими облаками, начинало пламенеть, разгоралось, а потом медленно холодело, остывало, как пронзительно голубеющие снежные крыши тонули в сумерках, темнел четырехугольник окна и появлялось на нем сдвоенное отражение кухонной лампочки. Никита тоже полюбил это окно и часто подолгу засиживался на широком деревянном облупившемся подоконнике, рассматривая ребристые крыши, то присыпанные снежной крупой, с чисто обметенными ветром коньками, то просыхающие после весеннего ливня, дымящиеся, с темно-рыжими мокрыми пятнами, то забросанные сухим листом, скапливающимся у желобов.
Антонина Васильевна, отправляясь на техучебу, заглянула на кухню.
— Пожалуйста, Женечка, приглядите за Павликом, чтоб делал уроки. Он еще не начинал. Главное, как услышите, что радио включил или «Крокодилом» шуршит, вы заходите и безо всякого стеснения... А мне нет интереса учебу пропускать, уж больно хочется восьмой разряд получить. Я как-никак шофер второго класса, всю войну на грузовике проработала, машину кругом знаю, смазку, резину, все. И что же, пришел парень демобилизованный, права имеет армейские и ему — хлоп, сразу восьмой разряд и ставят контролером на конвейер номер два. Что ни говорите, а к нам, женщинам, отношение второстепенное...
Наконец все собрались в коридоре уже в боевой готовности, отец позвонил и вызвал такси.
Наталья Юльевна, легонько охнув, присела на стул у телефона — новые туфли были ей тесноваты.
— А что ты думала в магазине? — не удержался от реплики отец.
Она посмотрела на него с сожалением — как это человек не понимает простых вещей.
— В магазине туфли всегда хороши. Если они красивые, конечно.
— Гм. Ну, а может быть, ты все-таки наденешь другие туфли?
Наталья Юльевна не удостоила его ответом.
Женя спросила громко, весело:
— Три, три и три, что получится? Мама, ты думаешь, девять? А вот и нет, дырка! — и сама первая засмеялась.
— У Никиты выучилась, — хмуро констатировал Костя. — С кем поведешься, от того и наберешься.
Мама внимательно посмотрела на дочь, но ничего не сказала.
— Передай Никите, если он сегодня зайдет... — начал Костя.
— Он же никогда без тебя не заходит, — удивилась Женя.
— Он что-то говорил... Ну, словом, курс Жебрака и Помяловского, который был на него записан, я сдал в библиотеку. Никита насчет этих книжных дел такой аккуратист.
Зазвонил телефон.
— Ну конечно, это маму, — хмуро оказал Костя, просовывая палец между шеей и воротником рубашки, — и, как всегда, разговор на три часа. Акмолина нет, чем его заменить, а пульс у дедушки сто двадцать...
— Я скажу, что ее нет дома, — отец решительно шагнул к телефону.
— Но если это с Просвирина переулка... — встрепенулась Наталья Юльевна.
Отец взял трубку.
— Да, вас слушают. Он самый у телефона. Здравствуй. Нет, не занят. Так точно. Да, да, читай.
— Па-па! — жалобно тянула Женя, дергая его за рукав.
Но Наталья Юльевна остановила ее:
— Это звонит Рожковский, — и села.
Явно пора было трогаться в путь, но отец молча слушал что-то такое, что на том конце провода читал ему Рожковский, а все молча ждали, пока отец кончит разговор.
— Да, в общем верно. Только написано как-то... уж слишком вежливо. И таким высоким канцелярским штилем, — сказал отец с усмешкой. — Как это там у тебя? «Просим вас изыскать возможность»... Пункт второй, найди. «Возможность объединения форм, сходных по содержанию, срокам и адресатам, для создания комплексных форм отчетности и уменьшения документооборота», — процитировал он на память. — А если попроще, да попрямее? «Настаиваем»... Слышишь, именно — настаиваем, а не просим. «Разбухшая отчетность... нет системы... бессмысленная растрата народных денег...» Записал? Вот в таком роде.
Они отправляются — наконец-то! В последний раз отец, похлопывая себя по карманам, проверяет, не забыл ли он что-нибудь из «семи священных предметов» — в это число входят портсигар, записная книжка, носовой платок, бумажник, ручка-самописка, мундштук с медвежонком... В последний раз мамина рука тянется к Косте, чтобы убрать волосы с его лба, в последний раз Костя нетерпеливо вздергивает плечами: «Ах, господи!» На прощанье мама особенно нежно целует Женю и, разглядывая ее неяркое личико своими черными блестящими глазами, шепчет, покусывая перчатку: «Большая, совсем большая. Взрослая дочка». В колодце лестничной клетки глухо отдаются шаги, голоса, мелко вибрирует сетка лифта, Костя возвращается за маминой сумочкой, которую она забыла на столике у телефона, внизу резко хлопает дверь, все стихает. Ушли.
...Женя постояла в коридоре, расплетая и заплетая косу. Зашла к Павлику, отняла у него «Крокодил», потыкала его носом в тетрадку, а журнал положила на телефонный столик. С каким-то виноватым, неловким чувством вспомнила о Тамаре. «Полосатая обезьянка» — это очень обидно. И, главное, несправедливо. Да, но при чем тут она, Женя? Не может же она одолжить Никите свои глаза? Что ни говори, Тамара очень хорошенькая, у нее ровный носик, такой нежный румянец, она умеет ходить на высоких каблуках, красиво загибать ресницы обыкновенным столовым ножом...
Телефонный звонок. Женя вспыхнула, смутилась, взяла трубку, уверяя себя, что не знает, кто бы это мог звонить.
— Да. Узнаю. Здравствуй. — Она притихла, как испуганная птица, с сильно бьющимся сердцем. — Никого нет дома. Никого, говорю, нет дома. М? Да, я-то дома. И Павлик. Кто не нужен? Павлик тебе не нужен? — Она слабо улыбнулась. — Да никого я тебе и не предлагаю.
Заинтересованный этим разговором, Павлик высунулся в коридор. Как человек бывалый и практичный, он мигом оценил положение, утянул из-под Жениного локтя «Крокодил» и скрылся, бесшумно притворив за собой дверь комнаты.
— Нет, еще не смотрела, — отвечала Женя чуть слышно и без всякого выражения. — Девочки говорят, что картина ничего. Когда? Прямо сейчас? Есть два билета? Право, не знаю. Да, «Уран» это совсем близко от нас. Но ты не успеешь доехать. Не у себя? Откуда же ты говоришь? Из автомата? Из булочной? Из нашей булочной?
Павлик в своей комнате включил радио, положил на край письменного стола ноги, непомерно увеличенные чехословацкими суконными ботинками, которые языкастые москвичи прозвали «больная молодость», и не спеша, с сознанием собственного достоинства и полной безопасности развернул «Крокодил». Сдвинутая куда-то на угол стола, сиротливо белела раскрытая тетрадь с одинокой фиолетовой кляксой.
В коридоре ярко светила лампочка без абажура, сидела девочка, закрыв лицо руками, не то плача, не то смеясь, девочка, для которой кончалось детство и начиналась новая сложная пора других отношений, взрослых, трудных и привлекательных, по-новому ответственных. А на углу, возле такой знакомой булочной, куда она бегала в коротком платьице, боясь потерять три рубля, на том самом углу, где она объедалась мороженым тайком от мамы и часами болтала с девочками, где ревела однажды, «схватив» четверку по поведению, теперь ее ждал, похаживая взад и вперед, сжимая в кулаке билеты, Никита, не тот, что ходил к ним в дом и пел дурашливые песенки, но тоже новый, без обычной улыбки, с какой-то выступившей внезапно черточкой упрямой воли, с заострившимися скулами. Запрокинув светловолосую голову и разглядывая прищуренными глазами далекое кухонное окно, этот рослый ладный парень в поношенном пальто гадал, переупрямит ли он судьбу, такую немилостивую к нему с детских лет, завоюет ли свое счастье.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





