ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна

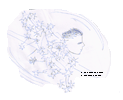

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Снегова Ирина 1978
I
СТРАНИЦЫ ЭТОЙ ЗИМЫ
Помолчим?..
Зима легла, а спокойней не стало. Задувало хмуро и назойливо. Но гулять было нужно. «А то «сядет» кровь». Оживала детская неволя, когда изгоняли «на воздух»: тебе же необходимо! Когда, пытаясь скинуть хоть сколько-то из ста одежек, скулишь: целый день, без отдыха, гуляю!..
Во дворе, унылом и кирпичном, вечном моем слепом дворе, прямо вангоговском с «Прогулки заключенных», было пусто. Будто заключенные уже отгуляли. Только какая-то малая фигурка, с рукавами до земли, делала круги в виду моей скамейки. Круги сужались. Фигурка росла и возникала прямо передо мной. Из-под красного капора карие вопросительные глаза. И коричневая шуба с пришитыми, пусто болтающимися рукавицами.
— Иди сюда, — говорю я. — Скучно тебе?
— Скучно, — отвечает фигурка. — А вам?
— И мне. Иди сюда.
И она, явно обрадованно, идет.
— Как тебя зовут?
— Марина.
— А меня Ирина.
— Похоже, — говорит Марина и дует в красный кулак.
— Замерзла? А почему без варежек?
— Потоушто в них снег.
— Откуда он там? Давай чистить.
— Потоушто попал. И не вытряхивается.
Конечно, я спрашиваю у Марины, сколько ей лет, и она, не раздражаясь на взрослый вздор, с готовностью отвечает, что пять. Почти. И добавляет:
— Много уже.
Задуло, завихрилось, и мы вдруг хором закашляли.
— Помолчим? — сказала я.
— Да, на ветру болтать нельзя, — умудренно цедит Марина и прижимает к губам указательный палец. — Тсс!.. — Но тут же отнимает: — Скучно... А вам?
Я говорю, что это потому, что темные дни, самые темные. Солнца нет, снега мало. Другое дело, когда хлопья летят, кружатся...
— Любишь?
— А вы?
— Хоть бы пошел! А то — пасмурно. Знаешь, ведь раньше, когда-то, давным-давно, называли не декабрь, а хмурень.
— Потоушто все хмурые? Им тоже скучно?.. Нет, — заключает Марина, вздохнув, — скучно, что ни к кому нельзя. Все — одна.
— Отчего так?
— Потоушто я уже поправилась, но еще болею. Мама говорит: все липнет. То воспаление в легких. Пять раз. То поехала в санаторий, через три дня свинку схватила. Приехала домой, пошла в сад — ветрянка стала... А к вам не липнет? — вежливо спрашивает Марина.
— Липнет, — вежливо отвечаю я и тоже тру пальцы. — Холодно сегодня, знойко, как говорили когда-то.
— Давно-давно? А вы побегайте! Нет-нет, не надо, — спохватывается Марина. И задумчиво добавляет: — Раз липнет...
И она, остерегая, говорит, что бегать нельзя, а то вспотеешь, а потеть нужно ночью. Тогда дают такое варенье, а потом меняют рубашки.
— Тсс! Дует, — говорю я. — Помолчим?..
И мы помолчали. А ветер гнал на нас черные листья, будто и нас хотел сдуть вместе с ними.
— Ветрянка — это когда все чешется, а чесать нельзя, — философски продолжает разговор Марина. — Чесать нельзя — дырки сделаются. Будешь потом выступать в театре или в цирке, и скажут: «Какая красивая артистка, а у нее дырки».
— Да, уж видно, терпеть нужно, — говорю я. — Мало ли что бывает: чешется или болит. Терпеть. Может, пройдет.
— Может, пройдет, — откликается она. — Только гулять надо и... есть. — Нос ее как-то, независимо от лица, морщится. — Я бы ела, с удовольствием, да — не хочется... А можно я вам ленточку подарю? — вдруг спрашивает Марина. И дарит. Узенькую, синюю. Неразлучную. — Жалко вот, шахмат нет... Сыграли бы... — вдруг совсем взрослым голосом говорит она и вздыхает, но вздыхает сокрушенно, как очень маленькие.
— А ты умеешь?
— Да, и еще обыгрываю.
— Кто же тебя научил?
— Как — кто: папа. Он же мастер. По шахматам.
— Значит, будешь чемпионкой?
— Не-ет. Просто, чтоб играть. Потоушто люблю. Думать надо. Все время думать. И — не скучно.
Марина поежилась, подняла воротник, объяснила, что шуба у нее теплая, но для нее еще расти надо и... толстеть. «Она как раз болгарская, заграничная».
— Скажи, какая иностранка, — говорю я и туже затягиваю на ней шарф.
— Не-ет. Я не иностранка. Папа и мама русские. А я, наверно, польская. Потоушто у меня бабушка — Панидвига.
— Ядвига?
— Не-ет. Панидвига.
Пожалуй, Панидвига. Думала же я (когда-то, давным-давно!), что «И в каждом пропели ридыши спокойствие наших границ...».
— Тебя, наверно, и Мариной назвали для Панидвиги...
— Не-ет... Для меня. Как мою прабабушку.
— Выходит, ты Панимарина?..
— Тсс, ветер! — Пани Марина опять приставляет палец к губам, точно взрослая из нас — она, и глядит на меня будто глазами всех своих прабабок: — Вот опять кашляете!
— Ну, замерзнем! Отдавай мои варежки и — домой, — говорю я, вставая. — Иди читай — умеешь ведь? Тебе, верно, через зиму в школу.
— Через зиму... если здоровая буду... Вон в ту. — И она показывает на другой кирпичный двор, за нашим двором, куда по утрам с портфелями шли дети всех бесчисленных этих подъездов. А прежде — их родители.
— А вы завтра выйдете? А? — Тихий голос Марины (от каменных стен, что ли?) звучит все громче: — Хотите, я шахматы вынесу, маленькие такие, дорожные, с дырочками?.. Выпейте сейчас чаю горячего с вареньем, с тем!.. А?.. Выйдете?
Мы помахали друг другу и ушли. И двор окончательно опустел, потоушто задувало все злее, перемешивая день и ночь, вчера и сегодня.
Вот-вот…
Обыкновенный
Тусклый зимний час,
Но скрытен он;
Из тусклости лучась,
Нисходит скрытно
Розовость в снега;
Минуя нас: едва...
Чуть-чуть... слегка...
Бессолнечный,
Не безнадежный час;
В нем солнце есть,
Оно — вот-вот... сейчас...
Я помню, как…
— Алло! Ты? Ну, как ты сегодня?
— Спасибо, дорогой, стараюсь.
— Ну, слава богу! Одна? Есть у тебя десять минут?
— Да я уже в шубе. Приду — позвоню.
— О, нет, к тому времени они вернутся.
— Но я ненадолго.
— Ах, она только в магазин, а ему уже из института срок.
— Тайный грех, позор семьи? Ну, тогда, может, завтра?
— К сожалению, у меня завтра тяжелый день: ученый совет, президиум.
— Ну, послезавтра?
— Послезавтра — еще трудней. Доклад!
— Что-нибудь языколомное? Как это, как это: квадрупольная ко... корреляция? Или вовсе — что-то ультрамикро... титриметрическое? Одним словом, мелкие молекулы?
— Словом, мелкие молекулы.
— Жаль. Я уже в шубе...
— Ах, Ариша, сними-ка ты шубу. Утешь, выслушай.
— Ну, что с тобой делать. Снимаю... Все — твое?
— Все. И слова, и музыка, и голос, и магнитофон. Только что запечатлел, пока их не было.
— Ну, села. Давай!
«Я по-о-мню, как беле-л-ли про-во-о-да-а...» Голос низкий, ну просто красивый. И музыкально же! Знакомо, конечно. Но что — незнакомо! Стариннейший прямо романс... И слова не хуже слов... «И все за-а-был... на-до-о-лго... на-а-всегда... Лишь помню, как бе-ле-е-ли про-во-о-да...»
— Ну, что, скверно?
— По-моему, прелестно.
— Нет, по совести!
— Ну, говорю же...
— Понравилось? Как на духу?
— Ну — Петр Ильич! И только!.. Бедные молекулы!
— Ой, не шути так!!
— Что? Почему?
— Да ведь они меня... Людвиг ван — зовут. «Ну, родитель, хоть ты и Людвиг ван...» «Ах, Людвиг ван, до жены ли вам!»
— Затравили?
— И ты теперь...
— Я? Да правда ведь хорошо! Слушала — только что не до слез. Поздравляю и обнимаю. Спасибо, милый.
— Тебе спасибо, тебе! В четверг, если пустишь, приду. Могу и с ними. Только — чур... Ой, лифт хлопнул! Бегу технику прятать!
— Ну, ни пуха!
— Это про что?
— Да про молекулы, насчет доклада!
— А!.. Кланяюсь. Надевай шубу. И всякое теплое — сегодня мороз.
Я надела шубу. И всякое теплое. Было и смешно, и весело, но и грустно. Людвиг ван... На улице сиял мороз, белели провода. А в ушах еще пел голос моего ученого друга. И думалось о том, как много в нас всего и как нам всего мало. И жизни... И отчего это дальние провода белей и ближе тех, что около.
От Можайска
Идет дорога от Можайска
По белизне, по тишине.
Шуршит асфальт: дыши, мужайся,
Хоть босиком — ступай по мне!
Заката розовая пряжа,
И сизый, смутный лес вдали...
И нет целительней пейзажа,
И нет мучительней земли.
Лист бумаги
Как-то не клеится, валится. И день — из рук вон. И что-то свербит тоскливо внутри, будто прихваченное бельевой прищепкой, и — не пишется, ни слова. Заколодило. Отложить бы... Но, определенно, есть магнетизм в листе бумаги. Что-то влекущее нарушить его белизну. Искушающее. И сколько их! И никого-то не остановила еще ядовитая японская мудрость, внушающая подумать, как красив чистый бумажный лист, прежде чем измарать его. Тяга. Мания. И если ясно, что не всякий графоман — писатель, то верно и что всякий писатель (или скромнее: пишущий) все-таки графоман. Это же недуг — писать, навязчивая идея. Почему «ни дня без строчки!»? Кто повелел, чья власть — листа бумаги?
А тяжко бывает над ним. И жутко. Как на краю, когда все вот-вот рухнет. Когда душит, как во сне. Вернее, в снах. Снилось их несколько, и они повторялись. Разные, но одинаковые, будто другие переводы того же подстрочника. До странности отчетливые.
Прожекторы. Сцена. Да-да, Большой! Его блеск, свечи. Пышная опера. Может быть, «Царская невеста»? Не исключено, но не обязательно. Слышно — поют! Внезапная тишина, и холод в животе. Дирижер (ясно видно) подымает бровь, мол, вам вступать. Это мне — вступать. Верно, «Пойдешь ли ты к заутрене, Григорий?». Не исключено. Ну да — Любаша. И платье на мне — ее... Как плывет в глазах!.. Еще Нежданова сулила мне контральто. Правда, давно. В шесть моих лет, когда мы жили в санатории Цекубу в Теберде.
Дирижер подъемлет вторую бровь, потом палочку: понимаете, — вам! Он протягивает палочку: вы что — спите? Вам ведь вступать! Господи, мне. Мне же! Легко сказать, а голос, а слух... Дрожь вдоль спины, по всей коже. И все сливается, путается. Зал не дышит. И оркестр. Дирижер в ярости (да вы что?), нет, он умоляет, он плачет, он протягивает к сцене, ко мне, руки. Обе... Сейчас, сейчас я умру! Весь оркестр простирает ко мне смычки, флейты, фаготы, они громоздятся: очнитесь же — вам, вам, вам вступать! Мне. В последнем отчаянии я бросаюсь к рампе. Как в пропасть. Я просыпаюсь, от своего голоса. В ужасе и счастье. Слава богу — сон! Только сон. Легкость какая...
Страшный сон. Но еще страшней балет. Балетный кошмар. Булгаковская фантасмагория. Все сверкает. Все кружится. Куда-то мчится. Розовое, голое. Маленькие лебеди гонят больших. Взлетает оркестр. Трам-там-там... Все разбегаются... Сцена пуста и огромна. Потому что сейчас — мне. Лететь, в розовой пачке. Вращение через всю сцену. Тридцать два фуэте. Тридцать два!.. Дирижер, палочка, озноб. Предсмертный холод. Удушье. Прощайте! Я взвиваюсь. Слава богу! Все в порядке: сон. Проклятый! Но — всего лишь, все-таки всего лишь... Ах, как легка жизнь без тридцати двух фуэте!.. Но пора вставать. Писать. Сочинитель должен сочинять. Это — наяву.
Не думаю, чтоб хоть кому-нибудь в кошмарах являлся лист бумаги. Вот этот самый. Чтоб — «Вам писать!». Ну и что. Писать — не петь. Какой голос? А у вас — есть? Не фуэте... Пишут же. И сколько. И ведь ни в каком сне не привидится, чтоб издатели протягивали руки — редакторы, директоры — «нам, нам, давайте, давайте! Стихи, рассказы, эссе! Что же вы молчите? Вам вступать!». И сам председатель Комитета по печати, в слезах — палочкой или авторучкой... О нет. «И! Что вы! Планы забиты на сто лет вперед, даже почти на двести. Сокращаем. Дни и ночи сидим и сокращаем. Ждите. Другие (между прочим, не хуже вас!) лет по сорок ждут. Э, стихи... Стихов вообще прорва... Все пишут. Редко кто не пишет. И все норовят в печать...» Норови не норови.
А пишешь. Мания. Странно, но все равно почему-то надо. Пусть сокращают планы. Сидят и сокращают. Пусть это даже смертельно опасно. Мне вступать! Мне. И — лишь бы успеть. Лишь бы не проснуться...
А и правда, умны японцы: совершенен он, белый лист бумаги. Как лаконична форма, прямы углы, ничего лишнего. Шедевр. Лишний — текст. Но пока его нет — как светит белизна! И, если вглядеться в нее, возникает как бы белый коридор. Вроде зеркального в старом гаданье, когда наставляли зеркало в зеркало. И поведет коридор этот куда захочет. Сквозь твою жизнь — эту и какие-то еще другие жизни. То ли бывшие, то ли — нет...
Вон, как бело на столе, и слепит. И кружатся по бумаге лебяжьи тени хлопьев в окне. И синими клетками падают рамы. Решетки их уменьшаются, множатся, как в тетради. И сквозь них вдруг — цифры. Как звери. И мучайся с ними. Это еще первые честные числа, до окаянных бассейнов и поездов. Это еще бедное перо №86. Теперь, против шариковых, — оно как гусиное. Ах, это перо! Как тащит оно из чернильницы за собой лиловую бороду. И через всю страницу. И все размазывается, плывет. И почему-то еще непременно задевается рукой. И делать нечего — рвешь страницу. Переписываешь. Вырываешь — переписываешь. Вот уже все хорошо, но, смотри, в этом списывании три раза повторился последний столбец. И опять сначала... Стой! Что ты! Осталось же всего четыре листка. Какая же это тетрадь! Теперь переписывай все, что и раньше, до того столбика, в новую. Снова здоро́во. Только бы не смазать. Ах, ничего нет хуже бумаги! Господи, так же невозможно жить!.. И дома — никого. Как всегда, никого, кроме Нюры. Все на работе. Не до меня. Свои неприятности. Хорошо, что я тогда не подозревала — какие. Просто знала: у всех свои. У меня — тетрадь, бумага. И, бывало, устав сражаться с ней, в безнадежности я опускала голову на все свои кляксы.
Что? Телефон? Я?.. Если буду хорошей девочкой? Буду, буду!.. В Большой театр?! Смотришь на пустую бумагу — как плотно лежат на ней сумеречные, сегодняшние клетки, и явствен голос оттуда, издалека.
Этот день уже не в счет. Завтра, послезавтра, и еще та ночь, последняя, самая длинная. Я почти хорошая. Если б не тетрадь. Другая уже, по русскому. Опять осталось четыре листка... Но — вот оно! Ах, как сверкает сверху, с яруса, ослепительный, единственный зал! Как быстро гаснет люстра, и медленно свечи по стенам. Долго тлеет внутри каждой красная нить.
Дирижер вздымает палочку. Впереди целый вечер. И вся жизнь. И, слава богу, еще ничего не известно, что в ней. Праздники... Но ведь высшим из них будет это мучение над листом бумаги. Праздник, укрепляющий в скорби? И главное — счастье, если не только тебя и не только в твоей.
«Душа певца, согласно излитая, разрешена от всех своих скорбей...»
Но что это! Как протягивает к сцене руки свои дирижер! «Я для тебя, о милый мой, забыла дом родимый свой...» Бедная Любаша. Какой у нее низкий-низкий, обуховский голос. Как глубоко и печально слышен он сейчас моему обратному слуху. И как легко от него. Будто и нет в мире ничего, что может защемить живое нутро бельевой прищепкой.
Нужно завтра…
Нужно завтра,
С самого утра!
Крайний срок,
Последняя игра.
Дописать,
Начать,
Понять,
Простить.
Убедить!
Прощенья попросить...
Даже если знать,
Что долго жить,
Грех на послезавтра
Отложить!
Паровые биточки
Сыпало всю ночь. Словно отдавало долги. Тощий лес вбирал снег, подставлял костлявые бока, тянул черные руки. От белых веток в окнах и столовая казалась светлей. Но на завтрак опять были паровые биточки. И Марлен, наш сосед, не замечая дня, стонал: «Ну, нэ можем мы есть их пэревернутое мясо. О пытыцах думают, а людей нэ кормят!» И грозил двери, где самодельный плакат сентиментально просил: «Кормите птиц!»
— Знаешь, — сказал мне Женя, — и правда: «Нэ хочешь — нэ ешь». Снеси в кормушку. В такой снег спасибо скажут.
Женя ушел на лыжах, а я завернула биточки в бумажные салфетки. Салфетки промокали, рвались. Кормушка на старой ели была пуста. По стволу елозил поползень. И опять показался похожим на дельфина. Синяя с сизостью спина, серый живот и хитрый длинный нос с прямым клювом. Я раскрошила биточки, отошла. Поползень рванулся в кормушку. И тут же — свистнул, что ли? — налетели (и откуда взялись!) еще три, замолотили. Схватит кусок — и прочь!..
Синицы появились одна за другой. Вдруг. На всех ближних ветках, как лампочки. Желто-зеленые грудки с черными галстуками. Белые щеки. Но и одинаковые они, видно было, что — разные. Как мы: поярче, побледней, поплоше. А маленькие — с серой грудью и без галстуков. Перелетали, чтоб поближе. Окружали. Ринулись. И что тут пошло! Звон, возня. Поползни гнали синиц, синицы носились, голосили: «Здесь, здесь!» Биточки взлетали фонтаном. Близко где-то чиркнули красные снегири. Прыгнула на высокую ветвь сойка. Толстая, розовая, с голубым пером на боку. А на голубом, как белая пуговица... Вдруг один поползень схватил большой кусок и — шасть — спрятал его у основания старой ветки, в пазуху. А сам как ни в чем не бывало затукал вверх по стволу. Сойка — камнем вниз, выхватила из тайника и в сторону. Робкая нахалка. Откуда-то метнулась вдогонку сорока. Через минуту пронеслась обратно с отнятым куском в клюве. Жизнь!.. Синицы то налетали, то, спугнутые, взмывали желтыми вспышками. Веселье!
Я подумала, что все-таки синицы самые отрадные, самые свои. И что, может, прав был Женя, когда летом срамил меня:
— Ну, что за чушь! Ну, влетела синичка! Твоя же, излюбленная. И что за знак?! Ведь птенец, дрожит весь. Заблудился, верно.
Заблудиться, может, он и заблудился, но тогда скоро все и началось. Не раз его поминали.
Лес был не просто завален снегом. Лишь бы как. Усыпан с тщанием и талантом. Ни виток не обойден. Повторено белым самое маленькое коленце. И ни снежина не рушится. И тихо. По-особенному, по-другому. Ведь правда, что и тишина тишине рознь. А эта и подавно: снежная, старинная, уходящая в другие зимы. В празимы, которые будто и не совсем прошли. И малые елочки из-под снега, вон, точно могилки с крестами верхушек. Благость! Как это говорили — «не по грехам нашим»?..
Женя вынырнул из-за кустов, взметнув белое:
— Знаешь, липнет. Да и подумал, может, тебе скучно. День-то! Сейчас сниму лыжи и пойду к Маше еще биточков просить. Верно, остались. «Нэ шашлык!» — прав Марлен. И пойдем синиц кормить. Я слышал, какой там у тебя звон стоял. Вон и тут еще воробьи: «Биточки, биточки!»
Я пошла обратно, ждать Женю. Кормушка была как вылизана. И на всех ближних ветках желтели синицы. Ждали?.. Я подумала, что ведь и правда всяко бывает, в силах соврать и синица, и наука. И что — кто знает? — может, будут еще и другие, негаданные зимы, и новые птицы.
Третье марта
Третье марта. Слепит, припекая,
Холодит, и погода легка.
И зима, и дорога такая,
Будто все это нам — на века.
Такой случай
Митя сидел в старинном, карельской березы, кресле и печально сморкался. Митя — внук румяной тети Дуси, каждое утро убирающей наш этаж. Только Митей тут его никто не зовет. Зовут — Отдыхающий. Это с тех пор, как на чей-то вопрос: «На кого учиться пойдешь?» — он без колебаний ответил: «На отдыхающего».
Митя сидел в гнутом золотистом кресле, стоявшем здесь еще при князьях, перестоявшем столько исторических катаклизмов, выстоявшем даже под натиском толп настоящих отдыхающих. Сидел и печально сморкался.
— Что, Отдыхающий, опять, видно, валенки промочил? — спрашиваю его, проходя.
— Не-е, не промочивал. Мозги выходят... — объясняет Митя, протягивая кулак с носовым платком. Вместо «мозги» у него получается «бозги».
— Это зачем, лишние, что ли?
— Не лишние, а мозги, — сокрушенно говорит он. — Колька Дьяков сказал: мозги. В телевизоре было. У них ба-а-льшой.
По этажу, влача пылесос, прошла тетя Дуся. Обернулась:
— Пойдем, сынок, в санчасть, закапаем. Ишь, насморк-то!
Но в санчасть не пошли. Не успели. К тете Дусе строгой походкой подошел отдыхающий из тридцатой комнаты, могучий дядя в пижаме полосками. И тетя Дуся, оставив пылесос, торопливо пошла за ним, в тридцатую. Через несколько минут она не пришла — влетела — в холл:
— Скорей, сынок, слазь, пойдем в подвал, поможешь. Беда у меня, пропажа!
Митя потянул носом. И чего хорошего в подвале? То ли дело на таком стуле, с ногами. Но тетя Дуся уже тащила за руку. Вниз, по широкой мраморной лестнице с красной дорожкой посредине. Вся красная, как эта дорожка.
Мне был час обедать, и я ушла. Встретила их опять, возвращаясь. Отдыхающий снова сидел в кресле, таком же гнутом, как наверху. Около стояла еще красная тетя Дуся с Зинаидой Ивановной, толстой белесой уборщицей первого этажа.
— «Пропала, грит, сумма!» Ну, я иду. Смело так. Знать не знаю. Честно. «Зачем, грит, белье меняли? Я, грит, деньги именно в наволочку кладу. Как мне теперь домой ехать? Именно!» Ну, я объясняю: знать не ведаю. Честно!.. Слава те, Митька нашел. Ну, молодец! А то бы... Три мешка перетрясли. Слава те, еще грязное не отправили. И верно — в наволочке были. В конверте. Сказал — тридцать пять, а этот — ох, молодо-зелено! — сорок нашел. Такой случай.
— Молодо-зелено! Теперь вали Отдыхающему премию. Имеет право, — сказала Зинаида Ивановна. И презрительно добавила вслед подымавшемуся по лестнице другому кому-то, в такой же, правда, пижаме: — И есть дураки, в наволочки прячут! — А помолчав, заключила: — Недоверчивое время.
— Премию давай! — загундосил Митька.
— Чего хочешь-то? — спросила я.
— Чего! Телевизор, как у Дьякова! Ба-альшой.
— Эх, телевизор, — сказала тетя Дуся, обращаясь не к нему, не к ней. Ко мне или ни к кому? — Дочь с мужем разошлась, а его мне кинула. Поуехали кто куда. Никто не пишут, ни копейки не шлют. Живи знай... «Телевизор»!.. И чего зря прячут.
— Прячут! — проворчал из глубины кресла Отдыхающий. — А сами во-он как шкап замкнули! — И он показал на старинный шкаф, тоже карельской, еще княжеской березы, с огромным амбарным замком на выпуклых золотистых дверцах.
— Ну, это нельзя, сынок. Рулоны туалетные растащат. Их и так считано-пересчитано дают!
— Да что рулоны! — взялась опять Зинаида Ивановна. — Рулоны... Время недоверчивое. И все! Вот я, — она повернулась всей тучностью ко мне, — вот я с супругом жизнь уже прожила, а он по сю пору все запирает. Замки отдельные ставит. А кроме этого — душевный... Время недоверчивое!
Где-то в конце первого этажа возник плач. Высокий, детский, прямо скулеж какой-то.
— Не смущайтесь, это опять старуха из третьей. Склероз! — спокойно объяснила Зинаида Ивановна. — Все так. Ключ от комнаты под дорожку схоронит, у двери, а потом и ползает, ползает на коленках. Найти не может. И примется плакать. Смех и грех. А кроме этого, учительницей была, по музыке. Надоела даже. Ну, да пусть себе...
— Нет, зачем, увидют, — жалостливо вмешалась тетя Дуся. — Пойди, сынок, поищи с ней. Ты же мастер. Такой случай. Именно... Безмозглая старуха какая-то!
— Не-е, не старуха, — обернулся Отдыхающий, — валенки промочивала, вот и вышли. — Митя потянул носом, удерживая собственные, и пошел вперевалку к третьей комнате.
Скоро из глубины коридора слышалась уже двойная возня. Кряхтенье. А потом вдруг к тоненькому скулению старухи прибавился внезапный бас Митькиного рева. И странно смешались они, эти два плача. Зинаида Ивановна вздохнула: надо же, старый что малый. Лбами, что ли, стукнулись? И пошла к ним, заполняя собой коридор.
— Ну, чего воете? — раздалось ее, перекрывающее оба плача. — Вон он, в двери торчит! Вставайте. Да и не заперто же!
И она толкнула дверь комнаты номер три. И низкое солнце в окне, уходящее за снежные елки, обдало розовым коридор и еще стоящих на четвереньках щуплую, белую старушку и мальчика с платком в кулаке, прижатом к красной дорожке, — Митю Отдыхающего.
— Митька, капли капать! — крикнула в коридор тетя Дуся.
А я долго потом не могла унять младенчески вздрагивающую старость, перевидавшую на веку, думаю, никак не меньше здешних княжеских кресел.
На верхушке…
На верхушке, на последней ветке,
Птица голосит.
Дождь апрельский, реже редкой сетки,
Между нас висит.
Тускло, ненарядно, неприветно,
Будто — к ноябрю...
Эту птицу, этот дождь и ветку
Ах как я люблю!
После этой зимы
— Бабушка, бабушка! Лягушка! Мертвая, замерзлая! — кричал Гоша, задыхаясь от бега.
В мокрых руках его что-то блестело, белело. Апрельское солнце грело, иссушая остатки снега, но руки у Гошки были красными от холода.
— Бабушка, бабушка! Ну, посмотри же ты! — Его круглые, светлые, бабушкины, глаза настаивали, негодовали. По пальцам текло. Он забегал то с одной стороны кресла, где сидела бабушка, то с другой.
— Отстань, Гоша, я занята, не подбирай всякую гадость, — монотонно сказала она и повернула английскую страницу, от которой не отрывались ее светлые, круглые, Гошины, глаза.
— Тетя Ира, тетя Ира! — Гоша кружил уже вокруг меня, Гоша умолял: — Ну, посмотрите, лягушка, мороженая!
Я посмотрела. В руках у Гоши действительно скользил кусок льда, а в нем, точно под стеклом, белела, брюшком вверх, как распятая, лягушка.
— Замерзла! — печально сказал Гоша и погладил блестящее ледяное брюшко.
И вдруг — вдруг, вдруг! — оно дернулось. О!! И стало вздуваться, потом — опустилось. Мы обмерли. Совершенно одинаково. Как это? Чудо какое! И снова вдруг: дернулась одна лапка, задняя. Потом другая. Потом вся лягушка содрогнулась, как вырываясь, отваливая остатки ледяной корки. И, как осклабившись, тоже вдруг — растянула свой огромный рот.
— Ой, живая! — выдохнул Гошка и сам вздрогнул. — Воскреслая!
— Живая! — ахнула я. — Положи ее на дорожку!
Гоша положил ее на подсыхающую красноватую землю, так особенно, совершенно необъяснимо пахнущую, и лягушка вовсе слилась с ней красноватым отливом мокрой спины. Только видно было: то надувается, то сжимается, распахивает рот, хватает, глотает воздух. Дышит!
И мы стояли, пораженные, наклонившись над ней, смотрели, как она оживает. Оказывается, можно. Нужно только вырваться и дышать... А потом Гоша запрыгал на месте:
— Ожила!! — И — побежал, побежал бегом, как сорвавшийся, как угорелый. — Жи-ва-а-я!! Очнулась после этой зимы! Ба-буш-ка-а! Да посмотри же ты! Ожила после смерти!
Гоша вопил и носился по дорожкам, где просыхающим, а где еще полным воды. Что-то как вселилось в него, гнало его, перехлестывало, вынуждало кричать, тормошить... Но когда бабушка, отложив книгу, спустилась с крыльца, лягушки уже не было.
Стихи о сороке
Сорока-белобока
Кашку варила,
Деток кормила...
Ты, сорока, меня и́скусом
Не тронь.
До сих пор щекочет присказка
Ладонь:
А ты мал, не дорос,
Воды в кашу не принес...
Врешь, сорока-белобока,
Синий хвост,
Ну, живем, и, слава богу,
Лес да мост...
Брось, что серо да убого,
Как погост,
Дрянь, сорока-толстобока,
Драный хвост!..
...А ты в лес не ходил,
А ты дров не рубил,
Не готов твой обед,
Ничего тебе нет!..
Ничего? Отрад бессрочных,
Верно, нет,
Ну, а щелк твоих сорочьих
Кастаньет?
Ври да ври — перетолкую:
Щелк да треск!
Хоть бы блесточку какую?
Что мне блеск!
Хоть бы взмыть, как бело облако,
До звезд?
Ах, сорока-балаболка,
Кверху хвост,
Ты воровка, голытьба,
Меня не тронь,
Золотит судьба
Не каждую ладонь.
...Не готов твой обед,
Ничего тебе нет!..
Ну, и что ж, что не до звезд,
Что вышел срок...
Ах, как синь твой хвост,
Как бел твой белый бок,
Как ты машешь
Над погостом, над рекой!..
А другой
Не надо каши
Никакой.
Как бы там ни было…
Май рванулся сразу, с места, наверстывая медлительность апреля. Все заспешило, отовсюду полезло зеленое. Разнозеленое, особенное, отстаивающее непохожесть, еще не слившееся в лето. А ясно и тепло было по-летнему. И птиц налетело всяческих. Пищали, свистели, пели. Кто во что горазд. И каждый день менялось, прибавлялось. Цветы пошли стеной. Сначала белые звездочками — пролески. Потом желтым морем одуванчики. Голубыми пятнами незабудки. И все пахло, чадило. Было от чего хандрить молодым и кашлять аллергикам. Особенно удивительна эта постепенность и всеобщность человеку городскому, как я, который и цветы майские всего-то что у Смоленского метро в букетиках видывал. А добром жизнь да заботы не отпускали.
Сквозь этот май и идем мы с моим знакомым, профессором, через лес, к плотине. Дорога чуть подымается. Профессор останавливается, стоит, навалясь на палку.
— Задыхаюсь, опять аритмия. Вот, посмотрите пульс, — ведь частит. Еще как. А они говорят — мнительность. Невротическое. Выдумали: кардиофобия. Что ж, что нет изменений, а ощущение — давление сто сорок не доказательство? А эта слабость в ногах... Какое преодоление? Себя? Декламация, милочка. Еще отправьте меня в Кащенко, к психиатру, как нашу Зою, которой все опухоли мерещились, так-то — мерещились.
Мы постояли, потом потихоньку пошли. Уже слышно было, как на пруду поют лягушки. Именно поют. Кто это выдумал, что кричат! Весной концерты их мелодичны, даже вон как выводит солист... Я сколько могла, как обещала жене профессора, увещевала его, тянула, уговаривала слушать, что снаружи, а не внутри, и не бояться, ну, предаться судьбе, что ли...
— Фатализм? Храбрый умирает один раз? Слыхал, деточка. Чушь собачья! Ведь слабость же в ногах. Давление сто сорок. И — старость.
— Ну, какая еще! Кавалер — из первых.
— Э, бросьте, — семьдесят лет. Как откуда? Ну, не семьдесят — шестьдесят шестой... Один черт.
— Вот уж и не один. Разные, — сказала я, и тут мне вспомнилась тетя Маня.
Впрочем, тетя Маня мне не тетя и я ей не племянница. Племянница ей Ляля, старинная моя, еще школьная, подруга. С ней-то и заворачивали мы, бывало, прямо после уроков в Малый Власьевский. К тете Мане. С неподъемными портфелями, а иногда, если весна дымная, голая, томящая московская весна, еще и с букетиками незабудок от Смоленского метро. Спешили, шли — на радость. И не только потому, что там, во Власьевском, сразу забывались все школьные неурядицы, и не оттого, что так не хотелось идти, мне, например, в пустой дом, где был весь неуют неуютного тогдашнего времени. Но и потому, что у тети Мани вообще все другое. Как уэлсовская машина. Все, как мы считали тогда, «из старинной жизни». Как в какой-нибудь пьесе. И маленькие проходные комнатки в деревянном доме, и плюшевые (негигиеничные — пыль!) скатерти, и фотографии на стенах. Сплошь. Из бархатных и деревянных рам глядят мужчины с усами, в галстуках бабочкой. Женщины в длинном, с печальными лицами, похожие на «трех сестер» из МХАТа. Только сестер было много и братьев...
И еще, но, честное слово, это не главное, — у тети Мани так часто бывали пироги с капустой, с яблоками. И хоть за жизнь для меня лучшей еды не придумано, все равно они — не главное. Главное, это как мы садились за круглый стол, в ранних сумерках включали низкую лампу под большим оранжевым абажуром с кистями. Зимой грелись у «голландки». Долго пили, «для настроения», крепкий-крепкий неполезный чай. Главное, что отступала и чертова химия и это кошмарное последнее собрание с «выведением на чистую воду».
Сидели долго, бессовестно долго. Слушали про старое — и старую Москву, и артистов. И невозможно трудно было встать и уйти. Я и тогда это знала: тетя Маня — отрадный человек. Бывают такие люди. Хорошо, когда они у вас есть. Маленькая, стриженая, с живой волной в волосах, всегда в белой кофточке или с белым воротничком. А в парадных случаях и с белыми манжетами. И похожая чем-то на девочку. Сколько лет и потом ни проходило, а какая-то девочка внутри нее все жила. И потому, наверно, ей все нашей было понятно. И потому так просто было представить себе и тетю Маню гимназисткой с косой, как на карточке. А глаза особенные. Впрочем, они даже сейчас те же, редкостные. Серые, такие сплошь серые, что нет зрачка, и очень блестят. Мы с Лялей даже думали, может, от каких-нибудь капель. Но тетя Маня поклялась, что нет, даже побожилась. Да это и правда. Ведь и теперь все блестят. Такой особенный, серый блеск. А что, наверно, было! Недаром на заветном портрете знаменитый артист Михаил Чехов (я знала про него: дома говорили, Чехов — это было событие) внизу наискосок написал: «Несравненной Манечке» — и еще много всяких несравненных слов... Но, главное, что и тогда и после тянуло к ней, это понимаю теперь, чувство, что около нее как-то нестрашно. Ну да — время идет. Идет, и пусть. Не уходит же. Вот ведь тетя Маня — все молодая.
Надо сказать, что и тетя Маня любила наши приходы. Может, тоже поэтому? Казалось: все — молодая...
— Что бы там ни было, как бы там ни было (это ее слова любимые), а чай пить пора. И — забудьте! И двум смертям не бывать!..
Иногда дарила нам что-нибудь. Ленты, которые если бы надеть, засмеют, но красивые. Бывшие. И вообще она с откликом была, добрая. И вот это главное. По-всякому добрая. И отдать — добрая, и добрая — незлая. Никогда не злая. Она часто нам говорила: «В моей жизни много добрых людей было...»
А жизнь к тете Мане, сейчас-то ясно, вовсе не так уж добра была. Жила она всегда одна. Всех ее женихов, как Ляля называла, куда-то девало время. Словно охотилось на них. Война, другие невзгоды. Мы не спрашивали. Уже последний, Николай Николаевич, знаю, на последней войне пропал.
Тетя Маня сперва давала какие-то уроки. И французского в том числе. Иногда мы заставали у нее кого-нибудь из учеников и тогда пили чай все вместе. Это уже потом тетя Маня поступила работать в банк. Банк свой, надо сказать, она любила... И ее, думаю, полюбили. Как и не любить. Пряменькая, в свежем воротничке, спешила на службу... Раз даже ездила в дом отдыха в Звенигород. А потом началась война, и тетя Маня с банком своим уехала в эвакуацию.
Во время войны дом во Власьевском сгорел, и, вернувшись, тетя Маня стала жить с Лялиной мамой, собственной сестрой, и со всей ее семьей. Лялина мама и тетя Маня — разные, никак не похожие. Лялина мама, как Ляля считает, человек хороший, но трудный. А Маня — легкий. Конечно, «где-то, по-своему, по большому счету», как теперь говорят, Лялина мама сестру любит: но кому, по правде сказать, нужно это «где-то». Нужно ведь, чтоб здесь, каждый день, без счетов.
А каждые дни были тесными. Нехватки, очереди, кастрюли, неприятности... И все-таки что бы там ни было, как бы там ни было, тетя Маня оставалась веселой, веселей других. Если б не она, может, пропали бы они все со своими трудными характерами. Придешь к ним иной раз — молчат. Все молчат. Трудные. Каждому где-то кто-то нагрубил, не так ответил, косо взглянул, и они — во мраке. Надо сказать, от этих ответов да взглядов бывает хоть кто помрачнеет. Но они уж очень близко принимают. Тому-то, хаму-то, не ответят — воспитание! — а дома в тучах. Но стоит тете Мане явиться из своего банка, все меняется. Раз-два — переоденется, умоется, причешется и — «к столу, к столу! Тоску разгонять! Я для настроения халвы принесла...». И, глядишь, отходят, добреют. Один только раз слышала я, как тетя Маня сказала: «Какие в мое время во Власьевском все добрые были. И куда делись...» Но, конечно, она знала, что внутри-то, где-то, по-своему, и они — добрые.
И долго тетя Маня все молодой была. Мы удивлялись: когда ж на пенсию? Но года не выходили. Это уж случайно Ляля потом узнала: тетя Маня давно еще себе десять лет скостила. Вот и расплачивается.
Но, надо сказать, старость ее действительно не трогала. Все так же волосы волной, хоть и подались, сколько-то поседели. Но и теперь не совсем седые, седеющие. И тоненькая, и все равно веселая. Внутри где-то. И по-прежнему обрадовать любит, позвонит: «Я, Ирочка, переводик твой в журнале «Работница» прочитала. И-зу-ми-тельно!» Переводик-то, скорее всего, срам один, а тетя Маня, верно, изумительная. Или звонит: «Ты, помнится, витамин такой-то искала, я тебе купила, у Белорусского нашла в переулке... Да, слушай, может, тебе пирожка испечь? Не грустишь?»
Как-то было позвонила Ляле: «Нет, почему, говорю, всех видеть хочу, но только чтоб тетя Маня дома была... А нет — в другой раз». Обиделись. А недавно она нас помучила, криз с ней случился гипертонический. Долго лежала. А встала, говорит: «Э, не бойтесь. Я Манька-встанька». И, тьфу-тьфу, обошлось. Вот уж сколько лет теперь не работает она — много! — а все та же. «Шла мимо, смотрю, в парикмахерской пусто, зашла причесаться, для настроения», «Я на утренний сеанс сбегала, милая картина, непременно пойдите!»
Но самое удивительное поднесла она нам недавно, на юбилее своем. Народу было много, одних родственников человек двадцать пять, знакомые, соседи. Угощение, цветы, подарки — всего тьма. Дата! Скащивай не скащивай: восемьдесят лет!
Но после первого тоста, первого «ура», тетя Маня, нарядная, причесанная, раскрасневшаяся, встает вдруг, оглядывает весь стол и произносит: «Спасибо, спасибо, всем спасибо! Но я уж вам, милые мои, сразу откроюсь. Последний мой секрет вам скажу. Мне ведь сегодня не восемьдесят — восемьдесят пять!»
Ахнули, стали хлопать, душить ее. Ну, Манька, ну, тетка, ну, бабка! Не десять — пятнадцать лет замотала! А она опять встала, осмотрелась. И, ей-богу, совсем не старая, совсем. И, в самом деле, около нее это не пугает. Ну, идет время, и бог с ним, что идет — не страшно. Осмотрелась тетя Маня, глотнула из старого тоненького бокала еще шампанского и как-то очень ласково, но как бы и с удалью сказала:
— Знаете, как бы там ни было, что бы там ни было, а нравится мне жить! — Еще что-то добавить хотела, но смутилась и только проговорила: — Пускай и вам... — и села.
В овраге щелкали соловьи. Щелкали — не пели. Я смотрю, что-то редкий соловей сейчас песню свою знает. Забывают, что ли. Впереди уже близко светил пруд. По дороге семенили трясогузки и, любопытные, подбегали к нам. Нарядные, в черных манишках...
— Ну, смотрите, до чего милые! — показала я на них профессору.
— Это вы мне, деточка, опять зубы заговариваете. Как с вашей тетей Маней. А у меня опять частит.
Мы сели на скамейку у пруда.
— Надо идти давление мерить.
В воде цветными, размытыми пятнами повторялся, без подробностей, день, май, мир.
— Что значит, нет органики, а ощущения? Главное — ощущения.
И я сдалась, отступилась. Верно, главное — ощущение. Но не страха, не ужаса, а вот это — чтоб нравилось. Что бы там ни было, как бы там ни было, а — нравилось. Пускай и вам.
Белые гольфы
Для того чтобы попасть в «туалет», как застенчиво величают теперь все отхожие места от вокзальных ансамблей до загородных скворечен, нужно было встать до шести. Лучше в пять. Тогда есть надежда избежать толкучей очереди, общей с мужчинами, в закуте перед двумя клетками едва в рост человека. Среди пирамид всяких очисток, вырастающих к утру над мусорными ведрами. А самое главное, есть еще и вторая надежда — попасть в следующую за первой комнату, умывалку с двумя раковинами. Если умывальню «держат» женщины — могут пустить. А если к тому же не иссякнет еще и горячая вода, можно успеть хоть сколько-то освежить тело свое, умученное больничной ночью.
«Кто? Женщины?» Меня впустили. И я ахнула. Посреди комнаты стояла совершенно голая (в тапочках) женщина и губкой растирала себя. Сквозь сетку окна дул колкий октябрьский рассвет, распространяя и усиливая главный цвет этого дома — серый. Голубовато-серый, как здешние стены с их масляной краской, холодный. Даже смотреть на голую было зябко.
— Ничего, ничего, не пугайтесь. Надо же мыться. Ну, старое же помещение, бывшая же школа. Зато врачи — думающие. Так что, вам стены нужны?! Привилегии? — И глуше уже сказала: — Человек должен за век все пройти! Зато какой покажется жизнь, когда отсюда выйдешь...
— Когда выйдешь... — откликнулся в углу совсем тихий голос. Это с белого диванчика — «для процедур».
Там, низко склонившись, сидела вторая женщина. Она-то и впустила меня. Думаю, очень молодая (лет двадцати?), в красном линялом халате с блеклыми желтыми цветиками по нему. Длинные, вдоль спины, уже редкие (от лечения?) волосы, тоже, как цветы, эти, тускло желтеющие. Заметила, почему-то многое заметила в ней: что и глаза какие-то светлые, и тоже как бы в желтизну уходящие. И только щеки — серые. Как здесь у всех. И еще удивил особенностью взгляд. В нем, как написали бы прежде, когда не извинялись еще — «туалет», виднелись страдание и сострадание — вместе.
— Когда выйдешь!.. — повторила эта женщина, раскачиваясь и нянча свой живот. — Ах, Дора Львовна!..
— Так, Валя, надо же верить, надо же бороться! Ведь побеждают — оптимисты!
Дора Львовна уже обтиралась полотенцем. Было аккуратное тело ее не худо, не толсто. Смугло было, что удивляло, и даже молодо. И живот, и грудь, и ноги — крепкие, очерченные. И лишь голова (не седая — седеющая) в короткой стрижке да лицо хоть с немногими, но явными складками показывали: в летах. А лета Доры Львовны, слыхала я, подошли к восьмидесяти.
Валя застонала, обнимая двумя руками живот.
— Стой, Валя, успокойся, ты же рассказывала, продолжай же! Ну, ушла ты тогда потихоньку с прогулки в садик к нему. Ну, сказали тебе, что в изоляторе мальчик, болен. Да? Так ты отдала для него фрукты? Да?
— Да, гостинец: грушу, банан, виноград. Взяли, — послушно продолжала Валя. — Через день опять доплелась. Опять говорят: больной ваш ребеночек. Опять передачу послала: яблоко, сливы, виноград. А в пятницу пришла — врач! Что вы, говорит, какой виноград! У него же понос! Я говорю, зачем тогда фрукты брали? Я же из последнего... Мне же самой вот как нужно... А она как закричит: «Быть того не может, чтоб брали!..» Не может!.. Может. Куда это Мишка смотрит? А что — Мишка! Ах, да и его жалко... В воскресенье явился. Вином дышит. Плачет: «Валя, говорит, не умирай, я тебе гольфы белые купил. В ГУМе стоял... Хотела ведь... Не умирай, говорит, Валя, я тебе еще куплю».
В дверь застучали сразу, громко и единодушно.
— Вы что тут, одни в больнице? — заныли женские голоса.
— Сейчас отворите! — вломились в их стон мужские.
Мы отворили. Пошли. В десять Валю возьмут вниз, в хирургию. Слепой коридор, однако, еще пустел по-ночному. Бледный свет над столом дежурной сестры, которой не было. (Все еще, видно, где-то спала.) Да за ширмой, желтея пергаментом, — худоба «человека без крови», как его почему-то звали. И когда, как сейчас, около него не маячила крестовина с ампулой очередного вливания, ничто не подтверждало, что он еще жив...
В палате было темно и сонно. Серый, затхлый воздух висел туманом. Только Лида Гарычева вскочила:
— Народу много? Ой, проспала — шестой? — И, укрепив роскошную свою прическу, зашлепала. В «туалет».
Во сне, как всегда, поскуливала юная, в мальчишьей челке своей, Рита из Кинешмы. Спящую мне бывало жальче ее, чем днем. Впрочем, и днем часто — тоже. И даже в тот раз, когда она, войдя в комнату, решительно повернулась ко мне:
— Ирина, вы оставались одна в палате. У меня пропал стакан!..
Громко и устойчиво храпела Роня, развалив огромное, будто богатырски здоровое, тело. Храп ее стрекотал, как мотор. И сколько же проклятий летело на бедную, большую и кудлатую, Ронину голову из-за этого храпа!.. А меня, нет, правда, меня он не раздражал. Действовало вечное, с детства снимающее всякую вину: она же не нарочно. И потом — оропакс! Одно из несомненно сбывшихся в моей жизни мечтаний. Оропакс! Розовые шарики из Германии. Щедрейший, великодушный дар. Оропакс — мир ушам, покой слуха: «Wenn Sie möchten». Если вы хотите приглушить звук, вы слегка разминаете двумя пальцами шарик, вкладываете в ушную раковину, и шум становится глуше, резкий голос утрачивает резкость. «Wenn Sie möchten». Если вы хотите выключить этот голос и этот шум совсем, вы мнете шарик дольше, так, чтобы он стал маленькой грушей с длинной шеей. И тогда — пусть пляшут в верхней квартире, прямо над вашей головой. Пляшут час, два, три. Вас потрясывает, но гиканья, но магнитовоя не слышно. Только деликатный шорох падающей на вашу тетрадь штукатурки... Оропакс...
Или вчера, после ужина, в этой вот палате нашей, когда добродушный Ронин бас гремел как на городском митинге: «Просто он не удовлетворял ее как мужчина, и ей пришлось жить с его братом. Но и брат был не в форме, и она вынуждена была...» (Спать с его племянником, что ли?) Но — оропакс! Стоп! Нет племянника. А ты всади оропакс в глубь черепа, изловчись и читай своего Парандовского — изящный рассказ об уединенной и возвышенной жизни Петрарки. Ах, читать бы о ней в натуральной тиши, под низкой домашней лампой!
Мир ушам. И укрылась я, довольная, что — успела, что не нужно будет ломиться в умывальню, что рядом еще спят. И серый рассвет потек в палату, поливая сизые наши лица голубоватым светом, так же как вчера в коридоре, около «человека без крови», синил их старенький телевизор с большим черным пятном посреди небольшого экрана — дар «нашего», как зовут в отделении заведующего. Лица как лица, разнящиеся от прочих не тем, как сказали бы прежде, еще до застенчивости, что лежит на них печать, извините, смерти, а тем, скажу я, что, в отличие от других, судьбы своей не знающих, есть на лицах этих признак знания ее. Судьбы. Даже у Ниночки и Коли (вчера впервые увиделось): над еще детской, хотя и мучнистой уже, пухлостью щек — тяжелый, взрослый взгляд. И в нем тоже оно — знание.
После двенадцати дня, словно крыла прошуршали, тихо, разительно тихо, сделалось в отделении. Дождь плыл по тусклому окну, отражался в застекленных «Правилах внутреннего распорядка», маячивших на стенке передо мной. Весь мир виделся в них. То клубилась, сжатая их рамой, густая листва тополя, того, под самым окном. То листьев отражалось все меньше. Теперь метались только три-четыре, последние. Черные. И плыл дождь. Все лежали на постелях. Читали...
Как-то одна писательница сказала мне мечтательно:
— О книга! Я представляю себе рай — все лежат и читают книги.
Я согласилась... Как мало я знала тогда. Как мало. Оказывается, именно таким может быть и ад...
Назавтра, после обхода, в палату к нам пришла Дора Львовна.
— Девочки, — с порога сказала она, — я хочу вас обрадовать. Особенно тебя, Рита. Зою Заеву знаешь, у окна в пятьдесят первой? Прозрачная такая. Соперировали сейчас. Так что бы вы думали? Чудо! Кто не знает — скажу: Зою ведь привезли из Боткинской. Там вскрыли (желудок) и... зашили. Сказали, все проросло. И сальник. Взяли биопсию — хуже не бывает. Муж Зоин все равно землю перевернул, а ее сюда на химиотерапию устроил. Не брали — поздно.
— Да, как поздно — сюда везут... — сказала Рита из Кинешмы.
— А муж у Зои — на редкость. Не зря она говорила: за всю жизнь ничего, кроме хорошего, — вставила Лида Гарычева. — Не то, что мой подонок: все руки моет. Я говорю, брось ты это свое. Такие клетки в каждом есть, только часа ждут. Брось, говорю, смотри, — няньки здесь по сорок лет грязь выносят, а вон какие бабки. Ты против них — покойник!
— Так я продолжаю, Лида, — прервала ее Дора Львовна, — привезли Зою к нам. «Наш» сделал несколько уколов и — на контрольный рентген. Так на рентгене, представьте, — чисто. Желудок как у младенца! Наш настоял на повторной операции. И что же? Вот только что. Вскрыли — и что увидели? Ни-че-го! Оказалось, спайки, всего-то спайки после старой операции аппендицита.
— Спайки! А что же они там, в Боткинской, пьяные были? А биопсия как же? — вскипела Рига из Кинешмы.
— Говорят, ошибка в диагнозе. Это я сама в ординаторской слышала. А биопсия? Наш сказал: значит, стекла перепутали...
Вот это да! Все восторженно задохнулись. Бывает же!
— Это, подумайте, врачи глазами видели, анализ брали!.. А меня только щупают да мнут... — мечтательно выдохнула Рита.
— Так вот я и пришла вам, девочки, сказать — сколько, наверно, этих ошибок! Ты, Рита, лечись, но и верь — может быть, еще и нет ничего решительно!
— Своими глазами! Ошибка! — опять не утерпела Лида Гарычева. — Вот на той неделе (я им тут говорила) врач мой из института переливания приезжал. Красивый, если б не лысый. Так он увидел меня — с нашим стоял — и говорит: «А, Гарычева! Здравствуй! Какие, говорит, волосы у тебя выросли! А плакала — лысеет от химии. Я говорил, вырастут... Вон какие, смотрите, выросли. Роскошь!» А я ему и на: «Еще бы не роскошь — сто десять». Он: «Что сто десять?» Я говорю: «Сто десять на проспекте Мира, в комиссионном. Так и вы можете». Тоже — ошибка в диагнозе!..
Все засмеялись, и только Рита сказала:
— Ах, ошибки — это у счастливых. Счастливая Зоя. Как снова родилась...
— Так муж ее, — вспомнила еще Дора Львовна, — и сейчас внизу сидит, плачет. Капа сказала, капли ему носила. От счастья уже плачет-то.
— Счастливая Заева! — тихо вставила Лида Гарычева и повернулась к стене.
— В рубашке, — басом откликнулась Роня и закрыла глаза.
— Ну, что заскулили? — снова уселась Дора Львовна, встав было уходить. — Хотите, чтоб пожалели? Ох, как все этого хотят! Даже звери. Ну, еще расскажу и пойду лечь. Так вот у сына моего, старшего, профессора, — две собаки. Пудель. Большой, королевский называется, — Амур. И маленький, кляйнпудель, Агат. Чудные собаки. Амур — это для него как хобби — любит прыгать через машины. Так вот как-то прыгнул он и — лапу вывихнул. Переднюю, правую. Ну тут, сами понимаете, в доме паника. Ветеринары, даже ветеринар доктор наук. Все носятся, ласкают: «Бедный Амуша», и то и се. И вдруг вечером того самого дня захромал и маленький. На ту же лапу, переднюю правую. Не наступает. Поджал, плачет... Что за черт? Его на руки: «Агашенька, маленький», и то и се. Так, представьте себе, вечером вдруг звонок. В дверь — соседка. И как этот Агаша дунет к двери. На всех своих четырех! Не выдержал хитрец, любопытство пересилило. А тоже ведь жалости искал.
Все оживились, кроме Риты.
— Агаши, ошибки — это у других, — опять вздохнула она. — А вот Валю и гольфы не спасли.
— Тсс! — рванулась Дора Львовна. — Тсс! Ни слова, — она только что не кричала. — Ты мне про эти гольфы — ни слова. Тсс! — и бросилась к двери. Пряменькая спина ее мелко дрожала.
— Да, не смогу я больше на гольфы смотреть, — сказала Роня, — когда лето настанет.
— Если настанет... — еле всхлипнула Рита из Кинешмы.
Больше не говорили. А думали — об одном. Валя виделась. Ее особенная, несовременная ласковая фигура. И золотистый взгляд, откуда-то снизу, прямо в глаза вам. И какое-то вопрошающее его выражение, и даже прощение в нем — всем. И судьбе, что ли. Виделся и Мишка ее, пьяный. С белыми гольфами в руках. Но в гольфах Валя — не виделась. Можно было скорей представить себе ее в старинном, в длинном. И голову с прямыми желтеющими волосами — не в шапке — в венке, венце, окладе...
И снова шел дождь, но теперь уже вместе со снегом. Шел, залепляя окно, струясь в «Правилах внутреннего распорядка», наполняя серой сыростью этот дом, построенный когда-то слушать хлопанье парт, топот ног, избывающих лишнюю силу, вечный неукротимый гул голосов.
Я лежу у окна. Это бывшая школа.
Снег кропит пустоту, льнет густеющий час,
И поверить нельзя в этой мгле невеселой,
Что когда-то здесь жил и бесчинствовал класс,
И что тополь больничный истлевшие тряпки
Листьев черных вот так же воло́к по стеклу,
И что все было правильно в миропорядке —
От урока к уроку, от стужи к теплу.
Дом напротив... Но нет, тот трехлетний от силы:
Швы промазаны черным — недавний фасон...
Что он делает, этот нелепый верзила,
Так вот, в майке, в трусах, и пришел на балкон.
Снег летит на него. Но, не склонный к недугам,
Он неспешно с веревки снимает белье...
Вот уж подлинно сказано: всем по заслугам,
И ему, и тебе, и любому — свое.
Был здесь класс, да замолк.
Дремлет бывшая школа.
Но внутри тишины звон еще не погас...
Мне не больно и благостно после укола,
За соломинку звука держусь я сейчас.
После рассказанного.
Я написала эти мои страницы не затем, чтоб расстроить вас или одернуть. Не для того, чтоб (как не постеснялись бы произнести когда-то) помянули вы чужое страдание. Знаю: и за себя не просите. Писала их даже не с тем, чтоб сказать вам: радуйтесь! Всякому дню — радуйтесь. Вот и нынешнему — хмуро, вода, мокрый снег в лицо... Вольный снег в горячее лицо! Белая кромка по черным, блестящим сучьям. И крепкий чай. И жаркая вода в кранах. И низкая лампа над книгой... Ах, господи, воля твоя!
Нет, я написала все это по чистой совести, просто чтоб сколько-то утолить свою душу. И если опечалила вас — простите. Живите долго.
P. P. S.
Сначала дождь, потом крупа,
И — мокрый снег с дождем,
И в небе как судьбы труба,
А мы пешком идем...
Благодарю тебя, судьба,
За этот снег с дождем!
Ураган
(Домашние заметки)
Шура опять уехала в деревню. И опять неизвестно на сколько. Все время так. Здесь поживет — соскучится, там — тоже затоскует. Отсюда — туда, оттуда — сюда. Божилась, что к Октябрю — после картошки — приедет. Через полгода, но — хоть бы! И опять покатились обвалом чашки-плошки. Дни побежали, как молоко по плите, оставляя запах гари и удивление: уже? из-за стола за стол?
А где-нибудь в очереди и вовсе думалось: как там в Нагорной проповеди — «и враги человеку домашние его»? А уж совсем вечером, в тишине и прибранности, раскаянно: о, только б навеки так было! И еще страдала, что надо было при Шуре успеть и то начать, и это закончить. А теперь ничего успеть нельзя. Некогда. И как это считалось, что время гонит лошадей. Ни лошадей, ни времени, и никто никого не гонит. Расщепляется. На глазах. Исчезает, оставляя ядовитые обломки.
Почти всегда, в разгар неподходящих мыслей, раздавался звонок в дверь, и вторгалась Анна Наумовна, соседка снизу. Общественница. Воительница. Бывший прокурор. Вечный всем помощник, человек редкой доброты и неутомимости. Она приносила что-нибудь (купила тебе заодно творога или там апельсинов). И начинала «подымать мой дух».
— Ирина, — говорит она, грозно умножая «р», — что ты из всего тррагедию делаешь? Ну что за барство? А ты читала в «Комсомольской правде» — десять человек детей. Десять! И все в порядке, и никаких трагедий, и образцовая семья. И мать не хуже тебя. Можно все успеть, если прравильно оррганизовать быт. Конечно, коллективно. И нужно трудовое воспитание. Тррудовое! Вот если бы тебя не оберегали как тепличное растение, ты бы жила без трагедий. Нужно детей по снегу босиком водить — закалка против любой детской болезни.
И я, посрамленная, терзалась неполноценностью. И ничего не успеваю, и детей не десять, и по снегу босиком не вожу, и воспитываю тепличное растение, и сама тепличная, и было как когда-то в детстве, когда Анна же Наумовна останавливала меня во дворе:
— Слушай, ты нормы ГТО сдала? И с парашютом тоже не прыгала? Ну и растят тебя. Вся страна прыгает (а страна и верно прыгала), и только ты, Иррина, в стороне. Тепличное растение. Хоть бы в парке культуры... с вышки.
И долго я боялась с ней встретиться.
— Не прыгала еще?
Нет, так и не прыгала.
А Шура опять уехала. Повезла 20 кг муки, 10 кг крупы, 5 кг баранок и всяких всякостей. И конечно, кофе всякого — тонкий знаток. Хозяйственная она да и денежная. Быстрая, и хоть каждый день гостей — пожалуйста. Умеет. Ну, предмет зависти и удивления. Конечно, не без странностей. Все говорят. Ремонт! Ох, где она теперь, ангел мой, со своими странностями. И чему, например, удивляются? Что это там у вас, радио? Нет, зачем... А!.. Как с кем? Сама с собой! Нет, ну почему гудит — стихи читает... Ну, что значит «какие» — слов же не разобрать. А иногда, в плохом настроении, поет. Разбираю. «Интернационал». «Вставай, проклятьем заклейменный»... Но ведь от этой чертовой кухни запоешь. Да и от нашего гастронома тоже. Вот и я сейчас примусь. «Вставай...»
Очень она меня жалела, уезжая. Слышу, просит: «Уж вы по дороге, когда, захватите». Уговаривает: «Ну, ты на два литра чашку всыпь. Всыпешь? А картошку потом, столбиком. Нарежешь?»
Режу столбиком. Сколько их! Можно целый свет застолбить. Ну, да не целый. Заладили — быт, быт! Все кругом. Стоном.
Мне снился сон: под звездной рябью,
Как в поле крест, стою одна я
И проклинаю долю бабью,
За всех живущих проклинаю.
Проклинаю — выдумала! Живем же. Постыдилась бы. Дома же сидишь. А вот Фира, самая счастливая, в 6 часов 40 уже выезжает поездом из Химок до Новой.
В конце концов работать можно и ночью. Хорошо. Тихо, телефон молчит. Только спать хочется. Укачивает. Как на корабле... В океане. А он так и сказал: «Здравствуйте. Я привез вам подарок из Индийского океана. Когда можно передать?» А Шура запричитала: «Да что это вы всех незнакомых, с улицы... Да мало ли какой!.. Моряк!.. Это всякий и моряк? И на что он нужен, моряк этот!»
Конечно, я согласна с мнением, что литератор должен жить обычной, заурядной жизнью: любить ближних, растить детей (еще Чехов на этом настаивал), а энергию поберечь для творчества. Согласна. Только вот энергии где взять...
Впрочем, теперь-то что. Теперь диво дивное. А вот пока не вырастишь — смерть как плохо. Не то что писать... Ни на шаг. И как белка в колесе. А если пишешь, один пессимизм получается! Неподходящий. Сейчас-то что, а как было, и вспомнить страшно. А вспоминается!
«Будьте здоровы, это вы слушаете? Мы тут по объявлению. Ребеночек у вас? Это приятно. Только, знаете, мы с мужем, двое...»
Или низким голосом...
Она. Алло! Я по объявлению. Сначала ответьте на мои вопросы: что вы предлагаете человеку, которого приглашаете в дом.
Я. Ну, как что — хозяйство вести.
Она. Комнату, разумеется, предоставляете? Ванна?
Я. Да, да, конечно.
Она. Сумма?
Я. Договоримся, будете довольны.
Она. Стол?
Я. Как мы...
Она. Ставлю в известность — на икру и шоколад я не претендую.
Я. И я.
Она. Но — фрукты?!
Я. Если будут...
Она. Ваше служебное положение?
Ох, это положение! Как-то привезли пожилую баптистку. Очень, сказали, с детьми умеет. И умела. И вдруг, через неделю, задушевным голосом: «Не могу я у вас, извините. Не могу. Я, знаете, всегда жила у больших людей. Я привыкла, чтоб хозяину машину подавали, чтоб секретарша... А простота вот эта ваша и неприятна мне даже, и посоветую: в другой раз за стол не сажайте — уважение будет». Расцеловала меня, перекрестила кроватку и ушла. К большим людям.
А мне привели другую старуху. Книги читала и курила. Через несколько дней сказала: «Остаюсь. Удобно. Одно только — пропишите племянника. Из Ташкента. Непьющий». А уезжая, на всю лестницу голосила: «Писательница! Племянника прописать не может! Знакомств, что ли, нет? Писательница!..»
Конечно, нужно жить нормальной жизнью. И, в конце концов, есть же детские учреждения. Но когда, скажем, профессор говорит: «Нет, нет, надо растить дома. Вы же видите, все инфекции липнут...» Тогда впечатления, уж не взыщите, — какие есть. Дети же не виноваты, что вы писатель. А как бы хорошо отвести утром. Уж все и привыкли. Уже спрашивают: «Мама, а ты с папой в одном детском саду была? Нет? А как же вы поженились?»
Пожениться-то как-нибудь поженятся, а до этого?.. Впрочем, сейчас ничто, кроме ожидания, меня не касается: там на стене — крупно, печатаю: «Срочно нужна в семью...» А помимо?.. А ничего и ниоткуда — живу, и все.
«Какой паспорт? У меня его и нет давно. Я же с вас паспорт не спрашиваю: в честности не сомневайтесь — двадцать лет в торговой сети работала».
«Тяжелая вещь одержимость пространством, когда вас привяжет судьба, как дворнягу»... дворняга — это я. А моряк оказался настоящим. В той самой черной форме, которая издавна тревожит женщин. Он вошел загорелый, с небольшой светлой бородой и ослепительными зелеными глазами. Правда ослепительными. Принес розы, как-то по-старинному поцеловал руку. Снял шинель. Двери комнат плотно закрылись и вытаращили замочные скважины.
В первый раз Шура постучала, чтобы спросить, что делать — кофе или чай. Второй раз, чтобы узнать — с молоком или черный. В третий — какие нужны рюмки. Обычно блеклое лицо ее раскраснелось и помолодело лет на двадцать, нет — на сто. Чашки и рюмки звенели взволнованным звоном...
А теперь опять уехала. Тянет. И все-то нас тянет, с суши на море, с моря на берег. Как это тогда он сказал: «Через месяц в океане начинаешь скучать по земле, через два — тосковать, а через десять — каждую ночь снится дом. Если он есть. Хорошо, когда такой вот, как ваш». А мне-то снится вода. Огромная. Море? Океан не снится. Не видала. А в чем различие? А дом — это ведь трудно, труднее корабля.
И зачем она именно сейчас собралась? Столько дел. Мои товарищи, литераторы, уезжают в дома творчества, обивают пробкой двери кабинетов, отдельные квартиры себе заводят — специально для работы. Мешают им голоса. Впрочем, голоса и верно иногда больше мешают, чем кастрюли. В пустой кухне нет-нет да что-нибудь дельное в голову и придет. Если не очень жарко. А чаще всего жарко, как в аду. Да, с трудом представляю себе своих коллег в фартуках. Это же роняет! Нужно же знать себе цену! А ведь кто не знает, что нет пророка в своем отечестве. Правда, что мне-то — бог с ним, с пророком, было бы отечество... А поставить себя надо бы уметь, да это кому дано. А то мне как-то Аннушка, очередная старушка (привели после конфуза с пропиской племянника), говорит: «Мяса у нас нынче на одну тарелку. Давайте мы с вами, чтобы не гонять-то мне, каши с молоком поедим, а мясо «самому» оставим. Нам-то что, а он все ж таки головой работает». Мне эта Аннушка, сухонькая, с поджатыми губками, несколько лет снилась потом! И как снилась-то! С соской во рту. А получилось так. Я вошла в комнату, когда Аннушка вечером кормила ребенка кефиром из бутылочки. Сидит спиной к двери и кормит. И вдруг в оконном стекле вижу, как во сне, — сидит Аннушка, в платочке, сухонькая, и из бутылочки, из кипяченой, стерильной, через соску кефир тянет. Чмокает, как пьяница. «Господи, — говорю, — что вы, зачем? Возьмите в холодильнике бутылку. Эго же детский, из консультации». А она: «Детский-то самый пользительный и есть». Уж и не помню, куда она потом делась. Может, и на метле улетела. Нет, кажется, из милиции пришли, головой-то работают...
А работать головой и верно трудно. Одна известная композиторша рассказывала мне. Как-то заработалась (головой) — писала фортепьянный концерт. Сидит играет. Слышит — где-то шум. Заперла дверь кабинета. Сердится — откуда шум. Вдруг дверь с грохотом — вон. Боже мой! Композиторша чуть не замертво: ворвались пожарные... Со шлангом, в касках — и чад... Оказывается, она еще утром поставила макароны. Конечно, забыла. Так ведь или макароны, или фортепьянный концерт. А в соседних квартирах заметили — дым сквозь дверь, и — пожарников. Воображаю, однако, этих пожарников у Петра Ильича, скажем. «Ка-акие ма-ка-роны, господа??»
А моряк, как и все моряки, курил трубку. Курил и рассказывал, что штурман, что легче назвать места, где не был. «Вот этот коралл, например, — он достал из чемоданчика белый, редкой красоты куст, — я привез вам из Индийского океана, с острова Чанги. И не слышали? Когда подходили к нему, был туман, совсем голубой. И стоял странный звон. (Я и теперь, когда гляжу на эти белые извивы, его явственно слышу. Понятно — это кажется. Но не проходит.) Такой тоненький. Птицы особые. Впрочем, так не расскажешь. Подарок мой вам не кораллы. А звуки, которых, я подумал, вы так никогда не услышали бы».
Он достал из чемоданчика маленький японский магнитофон, поставил на мой стол: «Сейчас вы услышите все наше десятимесячное плавание. И еще я записал кое-что из того, что видел особенного — это я вам расскажу. Как это у вас... Как это у вас — «Тяжелая вещь одержимость пространством...». Я и решил...»
Тяжелая. Помню, написала это в ярости, подвывая, как дворняга. Должна была улететь в Среднюю Азию, в последний момент — все сорвалось. Нюра, тихая, надежная, вдруг сказала: «Спасибо вам, отдохнула я душой. Видно, правильно я решила — пойду на месяц какой к ребенку. От детей — спокойней. Врачи сказали — обстановку сменить. А то нервы расшатались. Уж я теперь признаюсь вам, почему пошла по объявлению-то: нервы. Чуть мужа своего топором не зарубила. Соседи отняли. Ну, теперь поеду, спасибо. Небось ума решился, где я». И она поехала. А я осталась. «Тяжелая вещь...»
Какое пространство! Пришла Райка, блондинка в локонах. Жила у спортсменов. Долго! Месяц! Уволили. Как, почему? Материальное положение не позволяет больше. Что делать, беру. Скоро начинаем звать Айка. Поставит на огонь пустой чайник — ай! Поставит полный, без огня — ай! В счастливом случае, когда и вода и огонь, крышкой не закроет, и опять — ай, ай! На даче расхаживает только в купальнике. В моем. Однажды входят в комнату двое мужчин. Спрашивают меня. Я говорю: «Здравствуйте, это я». А они говорят: «Не вы. Вон, — говорят, — вы...» — и идут к Айке. Оказывается, когда она в Парке культуры знакомится, то представляется: «Поэтеска Ира Снегова».
Куда там было ехать. Ни на шаг. На десять минут к соседям ушла, помню. Подхожу и вижу сквозь дождь (дело осенью) — на террасе у нас керогаз (тогда еще не было газа). Огромный, и самая большая в доме зеленая эмалированная кастрюля — пышет. А рядом, на горшке, наследница моя полутора лет от роду. На расстоянии локтя. Ноги отнялись, еле дошла тихо, чтоб не спугнуть, чтоб не встала. А Раи — нигде. А потом: «Ай! Забыла. Причесаться ушла и забыла». Скоро ее, слава богу, сосед-профессор переманил. Вдвое денег положил. Я и то замечала, что давно его мой купальник привлекал.
А через несколько лет в Москве — звонок. Открываю. Дама в роскошной цигейке. Райка. С плиткой шоколада в руках. Разделась. Толстая. Теперь ей купальник мой на нос годится. Ходит по комнатам, головой качает: «А столовая у вас все та же. Что вы! У меня все полированное, немецкое, как зеркало. Мы в Ленинграде. Муж раньше военный был. Я тогда же вышла. Да, помните, приходил, поэтеску-то спрашивал? А теперь в ящике, на кадрах. И я на кадрах. Ответственность. Вот только и трудностей у меня что с ребенком. Девочка. Скоро два годика. Хорошо — бабушка, а помрет — на чужую не оставлю. Изуродуют...»
Торжественно надев цигейку (скосилась на вешалку: а у вас все та же), Райка пошла к спортсменам. Тоже с шоколадом, тоже — утереть.
«Это что ж за барыня за такая была? — спросила Анисья Ивановна тихим своим голоском (тогда уже она к нам переехала). — Ходит — заладила: все та же, все та же! Какая... — А потом задумчиво: — Не привел бог около вас пожить... я бы их никого близко бы... А теперь — что я, обуза одна. Разбрюзгла. Восьмой десяток — только дверь отворяю, за мной ходите. Это если б тогда, когда я к вашим-то пришла (к свекрови моей)... Да что я это — вас еще и на свете не было...»
Душе уютность, да различишь за стеной чтение (непедагогичное, вредное, как говорила Анна Наумовна). «...А ты слушай да кушай. И по-шелко-ролькко-роле-ве своей...» И спокойно. И будто не сирота... Царство небесное.
Однажды я сидела около нее. Она поправлялась от какой-то простуды, что ли. Разговаривали. Про то, про се. Про старое время — разве сравнишь: «Раньше в деревне ни у самого богатея телевизора, ни-ни, не было, а теперь, поди, через дом». Про новое: «Самолеты, корабли, а лошадей нет... До́роги, что ли, они!.. Иринатоль! А что есть окиян? Море знаю. Возили ваши-то — красиво. А окиян — что еще лучше. Различие — какое?»
Я. Да ведь и я не видала. Знаю, что большой.
Она (задумчиво). Большой. Вот и вам не пришлось. Не горюйте — все, может быть, увидите еще. Увидите...
Океан дышал в маленьком черном ящичке на моем столе. Дышал, как живой. Сначала сквозь марш духового оркестра. Старинный марш. Ни с чем не сравнимый вздох. «Это «Прощание славянки», под него мы уходим в рейс и входим в порт».
Под него, видно, давно уходят корабли. И плачут женщины — нынешние в мини или в брюках. И давние, в длинных платьях, шляпах с перьями и кружевными зонтиками. Или в простых платочках и полушалках. И слезы те же. Что ни говорите, все равно — те же разлуки или встречи. И духовая музыка та же. Будто время вдруг остановило расщепление и слушает духовой оркестр. В доме была тишина. Я открыла двери, зная, что и они (домашние мои) слушают. Однажды так в Севастополе на бульваре заслушался его, загляделся на гардемарин молодой Паустовский. Потянуло и его. Очень захотелось взять что-нибудь морское, на память... Лет через шестьдесят после этого, прочитав об этом случае у Паустовского, гость мой решил привезти своему любимому писателю морской сувенир.
«В бухте Святой на Сахалине попросил знакомого водолаза достать хоть какую-нибудь частицу затонувшего там фрегата «Паллада». И привез Константину Георгиевичу обломок затонувшего корабля. Паустовский был болен. Уже плох. Разрешили посещение на пятнадцать минут. Проговорили три часа. Очень обрадован был Константин Георгиевич, всю жизнь тянуло на море. Океан. Просил в другой приезд непременно прийти. Но в другой приезд, через три месяца, Паустовского уже не было на свете... А я тягой к морю заразился ведь у него...»
В крошечном чемоданчике вздыхало и гудело. Катилось. В тесноте его таился ветер. Иногда звучали новые, неизвестные голоса.
«Вот над нами тучи птиц. Они облепили нас. Белые, огромные. Буревестники... Слышите? Это их голоса...»
В ящике бились птицы.
«Мы подходим к Южной Африке. Это мелодии Южной Африки...»
В ящике, задыхаясь, надрывались ритмы и голоса.
«Вы слышите говор Гонконга? Это улицы. Это толпа. Это базар. Слышите?»
«Над нами черное небо Южного полушария. Очень тихо. Слышите, как тихо. Черно внизу и вверху. Ветер несет откуда-то с берега запахи уж и не знаю каких растений... Над нами Южный Крест... Прославленный Южный Крест...»
Потом — плеск. Это праздник дельфинов. Они кружатся, кувыркаются, забавляют команду. И долго, долго провожают потом. Почетный эскорт...
«Слышите взмахи? Вокруг летучие рыбы. Они перелетают через корабль, они летят высоко над водой. Их тянет ввысь...»
И вдруг — рев. Скрип, вой, грохот, рычание. «Не пугайтесь, это знаменитый ураган Изабелла. Я записываю у себя в рубке, на самой верхней точке. Волны как ваш дом. Крен корабля — сорок пять°».
И в доме была настоящая Изабелла. И он накренился. И было страшно, и нестрашно, потому что это устойчивый дом.
«Десятый месяц мы плывем... Как хочется в Россию, чтобы снег и тепло... Рассвет. Небо зеленого цвета. Ярко-зеленого. Какая широта. О вы, живущие в тесных домах, позавидуйте нам...
Позавидуйте нам! Который месяц... Как хочется на землю, и чтоб был на ней прочный дом...»
Двери были открыты. Все женщины слушали. Думали. Все про свое.
Шура, наверно, что пора в деревню: всех денег не заработаешь. Пора.
Дочка, думаю, что нет уже никаких сил жить как в тюрьме. Жизнь проходит — вот уже и девятнадцать. А где-то Южный Крест. А рядом — моряк, и видно, что красивый, и что, черт возьми, пора на занятия.
Я — что все-таки, все-таки... жизнь, хоть и так уж сложна, а все-таки.
А гость мой, знаю, — что должен быть, должен же быть прочный дом на берегу. И вы не можете себе представить, как без него...
Шура опять уехала в деревню. Может быть, на полгода, может, побольше. Неужели не приедет? Приедет, думаю. Ведь уже сколько лет так. Скажет: уж больно тихо там. Да и кофе... Хочу грохота, как, помните, у вас ураган.
А мне иногда снится, что я плыву и не страшно, потому что по бокам дельфины, а где-то духовая музыка.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





